
Издание газеты
"Православный Санкт-Петербург"

Издание газеты |
|
|||
| НАШИ ИЗДАНИЯ | «Православный
Санкт-Петербург»
|
|||
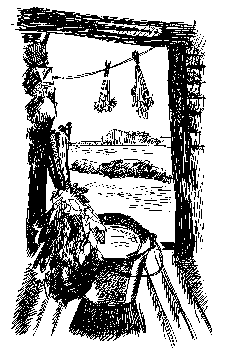
Чем сильнее иностранец изучает Россию, тем сильнее влюбляется в нее. В России есть магнитная притягательность женственности, вековая мудрость, добрый юмор и спокойное терпение. Особенно любят Россию те, кто занимается русским языком, - филологи и переводчики. Мне везло на переводчиков, хотя даже лучшие из них часто ставили меня в тупик своими вопросами.
- А что такое голик? А что такое рига? Разве это не столица Латвии? И почему коса для травы - литовка? И почему у вас написано: ограда до Петрограда ветру рада?
Я терпеливо объяснял:
- Ну, значит, нет никакой ограды. Бедность. Или мужик такой ленивый или пьяница, что даже ограду не может сделать.
Но вообще мы всегда как-то выкарабкивались, находя похожие слова или выражения. Но, конечно, я понимал, что читатели за рубежом так никогда и не поймут, что подберезовик - это обабок, и что есть еще обабок, бабка - суслон, а что суслон - это снопы, составленные особым образом, а снопы - это связанные свяслом колосья, а свясла - это те же колосья, скрученные для крепости жгутом. Конечно, видимо, и слово "голик" они понимали как бывший веник. Так оно и было, бывший веник, потерявший листья на службе в избе и выселенный на крыльцо для несения героической службы по обметанию валенок от снега. И что еще до работы в избе веник работал в бане, выбивал из хозяев разнообразные хвори. Где уж там было объяснять, что последний ребенок в семье - заскребышек, что это вовсе не от того, что ближе к весне приходится "по амбарам помести, по сусекам поскрести". И почему в амбаре метут, а в сусеке скребут? И как объяснить, что подполье - это не только большевистское, но и место для хранения картошки.
Это нам, русским, сразу все понятно, до иностранцев все доходит медленнее, а чаще всего не доходит, и они ищут облегченную замену для понимания.
- Вот у вас такая фраза, - спрашивала меня немка-переводчик. - "Этот Витя из всех Витей Витя". Как это понять?
- Ну да, из всех Витей Витя.
- Это у нас не поймут. Надо как-то иначе.
- Ну-у, - думал я. - Давайте: этот Витя еще тот Витя. Да, пожалуй, так даже лучше: еще тот Витя.
- Это тем более не поймут. Подумают, что этот Витя похож на того Витю. То есть их два: этот и тот.
- Вот то-то и оно-то, - говорил я, - что он не тот, хотя он еще тот. Он еще тот Витя.
Мы начинали искать общеупотребительное слово, синоним выражения, перебирали слова: шаромыжник, прохиндей, мошенник… Нет, Витя под эти мерки не подходил, это был еще тот Витя, переводу не поддавался и уходил за границу сильно упрощенным.
- Вот я назову повесть, - сказал я переводчице, - и тебе снова не суметь ее перевести. Вот переведи: "Как только, так сразу".
Переводчица тяжко вздыхала, а я ее доколачивал:
- И в эту повесть включу фразу: "Шлялась баба по базару распьяным-пьяна-пьянехонька", как переведешь? Да никак. Ни по какому базару у вас не шляются, да и базара нет. И она, заметь, не ходит, не слоняется, не шлендает, она именно шляется. И хотя распьяным-пьяна-пьянехонька, но какую-то цель обязательно имеет. Иначе зачем бы шлялась.
- Может быть, - вспомнила переводчица выражение, - она погоду пинает?
- Это для нее пройденный этап. Вчера пинала, сегодня шляется. Да, товарищи немцы, были мы для вас непонятны, такими и остаемся. Но, в утешение тебе скажу, что для англичан мы еще более непонятны. Вот сидит у меня дочь, учит английский, обратный перевод русской сказки с английского. Сказка называется "Приказ щуки".
- У вас есть такая сказка? - заинтересовалась переводчица. - Я очень много занималась фольклором, такой не помню.
- Это сказка "По щучьему веленью".
- О да, есть.
- Вот. У них же, на английском, веленья, видимо, нет. Так вот, читает, переводит: "Жены братьев говорят Емеле: "Организуй доставку воды с реки, иначе наши мужья, твои братья, не зайдут в городе в супермаркет, не привезут тебе презента". Каково? Нет у них, оказывается, ни гостинчика, ни ярмарки. "Олрайт", - сказал Емеля и пошел организовывать доставку воды".
- Трудно, - вздохнула переводчица. - Я бы ближе перевела, но на гостинчике бы запнулась. Хотя гостинец у нас есть. Подарок.
- Нет, тут именно гостинчик.
Переводчица задала интересный вопрос:
- А вот Витя, о котором мы говорили, он мог бы в свое время быть Емелей?
- Вряд ли, - протянул я, - вряд ли. Емеля безхитростней, он, как Ванюшка. Кстати, слово Ванюшка тоже для вас не переводимо, у вас только Иван да Ваня. А как же Ванек, как же такая фраза: "Сашка-то, ухорез, ухарь, на ходу подметки рвет, а Петька ваньковатый"? Так вот Ванюшка из сказки "Конек-горбунок" у вас, наверное, в переводе: маленький конь с большим горбом, а?
- Я не помню, переводили ли ее у нас? - задумалась переводчица.
- Безполезно и переводить. Так вот, этот Ванюшка говорит братьям, когда они его обманули: "Хоть Ивана вы умнее, да Иван-то вас честнее". И по выводу сказки именно честному Ване достается царство. Для меня в этом Ване одна загадка: когда он достает для царя царь-девицу, то очень критически оценивает ее красоту: "А ножка-то, ножонка, тьфу ты, словно у цыпленка, пусть понравится кому, я и даром не возьму". Вот. А когда превращается в добра молодца, не доброго, хотя добрый молодец, конечно, добрый, так вот когда превращается в добра молодца, то эту царь-девицу берет в жены. Ну, тут уж она его сама не отпустит, вкогтилась. Она же вкогтилась. Сильнее глагол. А у вас спросят: разве у нее когти, а не ногти? Она ж с маникюром.
Переводчица засмеялась.
- Ну-у, - почесал я в затылке, - о женщинах только начни. У вас, наверное, только "фрау" да "вайб", женщина и баба?
- Вайбляйн - маленькая баба, - добавила переводчица.
- Ростом маленькая, значением? Чем? О, у нас обилие этих баб. Можно сообщить?
- Записываю.
- Записать можно, перевести невозможно. Вот бабенка - это веселая, разбитная. К ней где-то близко бабешка - шальная, может быть, не очень усердная на хозяйство, но на веселье всегда пожалуйста. Бабища - это не обязательно габариты, не полнота, не вес, это, может быть, характер. Не путать с бабехой - это дама безцеремонная, громогласная. Вот бабочка - это не мадам Баттерфляй, это может быть и аккуратная бабочка, может быть, и заводная.
- Заведенная?
- Нет, заводная. Или вот на мужском жаргоне, когда обсуждают достоинства женщин, говорят про иную: "Отличный бабец!" Или: "Бабенция без комплексов". Или ласково: "Веселый бабенчик". Не бубенчик под дугой, а бабенчик. Но почему в мужском роде, не знаю. Может быть, это юношеское про общую подругу: "Наташка - свой парень". Но бабенчик, опять же, не бабеночка, бабеночка постарше. Да, вот, кстати, для улыбки, литературный анекдот. Исаак Бабель написал "Конармию". К командующему Первой конной Буденному приходят и спрашивают: "Семен Михайлович, вам нравится Бабель?" Он отвечает: "Смотря какая бабель".
Но серьезно хочу сказать, что богатство русского языка - это не так просто, это богатство мышления. Чем у человека больше слов, тем он глубже и разнообразнее мыслит. Так что сочетание "русский ум" - это не пустые слова.
Вот от того, что переводы русских трудны, Запад переводит не русских писателей, а русскоязычных. Наш пен-клуб, например. Конечно, зная русский, ты понимаешь, что в просторечии он не пен, а пень-клуб.
Всегда мы были богаты, сорили богатством. Вася на Васе, семь в запасе, то есть полно всего, а я вот схватился за полное собрание русских загадок, читаю, а из них три четверти умерли. Не слова умерли, выражения, явления умерли, предметы, только словесная оболочка, идея предметов. Двор, поле, упряжь, сельхозработы, лес, вообще образ жизни, - все изменилось. Страшное нашествие уголовных терминов: вертухай, запретка, пали малину, шлангуешь, замастырить, стибрить, слямзить, свистнуть, стянуть, скоммунизмить… А связанное с пьянством: косорыловка, табуретовка, сучок, бормотуха, гнилуха, стенолаз, вмазать, втереть, жахнуть, остограммиться… неохота перечислять, срам. А еще срамнее всякие консенсусы, саммиты, ваучеры… все это, конечно, проваливается в преисподнюю, но возникают всякие менеджменты. А менеджер, кстати, по-русски, это приказчик - прекрасное слово.
И еще, нашествие идет, главное нашествие - на язык церкви, церковнославянский. Очень простой, доступный, божественный язык. Называется богослужебный. И на него атаки - заменить на современный. Это же прямая измена всей русской истории: на этом языке молились наши предки. Как менять? Вот это и будет пропасть, в которую нас влекут. Прости ближе к престолу Небесному.
Переводчица, вздохнув, закрывала исписанный блокнот. Утешая ее, я сказал на прощанье:
- А в чем разница между молодушкой и молодяшкой? Этот вопрос труден уже и для русских. Молодушка - это недавно вышедшая замуж, а молодяшка - это молодая кобылка. Уже не стригунок, но и не кобылка, еще не жеребилась. А зеленая кобылка - это вообще кузнечик. И это не маленький кузнец, не подручный в кузнице, а насекомое такое, на него хорошо голавль берет.
- Спасибо, - с чувством благодарила замученная мною переводчица.
Я же, войдя во вкус, отвечал:
- Спасибо не булькает. Спасибом не укроешься. Спасибо в карман не положишь. От спасиба не откусишь. Спасибо - много, хватит и рубля. Из спасиба шубу не сошьешь. Спасибом сыт не будешь. Так что, гран мерси.
Ну, хорошо, мы, любящие Россию, уже ничему не удивляемся, то есть в смысле издевательств над Россией. В основном, это издевательства публичные. Вот выпустили на экран свинью гулять, а на свинье черной краской: "Россия". Вот иконы оскверняются. Вот реклама: царский посол ворует кофе, ну и так далее.
В чем секрет русского неотмщения издевательству над русским? Думаю, в русском осознании своей греховности. Это осознание выше многих. Праведно проживший монах говорит: "Плачьте обо мне, братья, потому что не приготовил я себе напутствия в вечность. Вот идет день, после которого не будет другого утра. И будут муки, которые мы заслужили. И из пламени будем взывать: "Господи, Ты сотворил нас для жизни праведной, а мы уподобились скотам, считая плоть за главное в жизни. Забыли, что не деньгами платили за нас, а кровию Христовой".
Какое же счастье сидеть в деревне одному, без телевизора, с восходящей на небеса молодой луной. Счастье - тихонько выходить во двор, чтобы не спугнуть скворцов, счастье - замереть над первыми цветами, да даже и такое счастье, чтобы горестно охнуть над погибшим ростком сирени.
Счастье-то счастье, но не уходит из головы ужас и цинизм только что виденного повешенного! Где? В самом центре Москвы, в начале Тверской, там, напротив театра Ермоловой сейчас контора Евросети. Контора эта, по-нынешнему говоря, офис. Там тебя не обхамят, но без денег к ним не приходи. И вот я зашел и увидел, что при входе в Евросеть над головами входящих висит повешенный мужчина в галстуке, в хороших ботинках. На груди табличка: "Повешен за некультурное обращение с клиентами". Большей мерзости, цинизма и пошлости я никогда не видел и очень надеюсь, что не увижу. Вот это символ Евросети. Сеть ее наброшена на нас, а над сетью висит повешенный манекен.
Возмущенный, я сказал офисным (читай: конторским) служащим:
- С черным юмором у вас все в порядке.
Они, думая, что оценен их уровень, захохотали, довольные.
Нет, я человек старой закалки, а передо мной были люди новой формации. Закалка что-то значит, нас закаляли, а этих формовали, штамповали.
А теперь надо рассказать про второго повешенного. В тот же день поехал в свое Никольское. И мне первый встреченный на остановке сказал:
- Чего Сережик-то выкинул, а?
- А что Сережик?
- Да повесился.
Ничего себе новость. Сережика я знал давно. Крохотного роста мужичишка, он сильно пил. Пил с женой, потом ее похоронил и напился сразу же. Ходил пить на могилу. Жил с матерью. Она не пила, умерла сама. То есть вот это неизвестно. У них загорелся дом, ее утром нашли мертвой. Может быть, она задохнулась в дыму. Огонь быстро потушили. Сережик даже не проснулся - спал на крыльце. Заметили соседи, вызвали пожарных. Вскоре дом снова горел. Тоже потушили. Говорили, что от проводки - дом старый.
Сережик часто приходил ко мне. Конечно, за деньгами. Но не было, чтобы он цыганил деньги просто так. Он каждый раз обязательно что-то приносил. Он воровал на стройках. Строек в наших местах было много - Москва расползалась. Сережик воровал все, что мог унести. А так как был малосильным, то уносил немного.
- Дядь Вов, - говорил он, - возьми рубероид. Хотел крышу крыть, да раздумал. Купи, а?
Когда была жива жена, то приходил вместе с нею. Она не смела войти за калитку, стояла за ней и смотрела на меня молитвенно и отчаянно.
- Сережик, - говорил я, - ну куда мне рубероид? Лучше я тебе просто так дам. Реанимируйтесь.
- Дядь Вов, - вздымал руки Сережик, - дядь Вов, знаешь чего? Не знаешь, дядь Вов. Я же к тебе в крайнем случае. Я все считаю, ты можешь не считать, записываю, сколько тебе должен.
- Свечку поставишь в церкви, и ладно, - отвечал я.
- Да! - кричал он возбужденно. - Да! Но одеться же надо, так же не пойдешь. Да я и так за тебя молюсь. У меня и икона есть. Материна, еще от ее бабушки.
Нет, четко подумалось мне, не мог Сережик сам повеситься.
- Это когда?
- Да с неделю.
Я подошел к дому Сережика. А в дом уже было не войти: уже вся одворица была обнесена забором и внутри ходили рабочие. Меня внутрь не пустили, сказали: не велено.
Да, не мог Сережик сам повеситься, помогли. И не от проводки загорелся его дом, а поджигали.
- Дядь Вов, - кричал он, - пойдем со мной, пойдем! Я тебе покажу, где проводка, а где загорелось. Там и бутылка с бензином. Поджигали меня, дядь Вов. Пожарный говорит: "Начали поджигать, все равно сожгут".
Вот и весь мой рассказ. Теперь на месте дома Сережика стоит угрюмая желто-красная домина, у ворот будка со сторожем. Иногда из ворот выезжает нерусская машина с задымленными стеклами. Да, в общем-то и плевать в эту сторону. Но вот жаль, не знаю, где похоронили Сережика. С его смертью я лишился молитвенника за себя. Это главное.
А висит ли в конторе-офисе манекен, это мне уже и неинтересно. Злу не положено предела, еще и не то увидим.
А Сережика нет.
Человек я совершенно неприхотливый, могу есть и разнообразную китайскую или там грузинскую, японскую, арабскую пищу, или сытную русскую, а могу и вовсе на одной картошке сидеть, но вот вдруг, с годами, стал замечать, что мне очень небезразлично, из какого я стакана пью, какой вилкой ем. Не люблю пластмассовую посуду дальних перелетов, но успокаиваю себя тем, что это по крайней мере гигиенично.
Возраст это, думаю я, или изыск интеллигентский? Не все ли равно, из чего насыщаться, лишь бы насытиться. И уж тебе ли, это я себе, видевшему крайние степени голода, думать о форме, в которой питье или пища?
Не знаю, зачем зациклился вдруг на посуде. Красив фарфор, прекрасен хрусталь, сдержанно серебро, высокомерно золото, но, завали меня всем этим с головой, все равно все победит то лето, когда я любил библиотекаршу Валю, близорукую умную детдомовку, и тот день, когда мы шли вверх на нашей реке и хотели пить. А родники - вот они, под ногами. Я-то что, я хлопнул на грудь, приник к ледяной влаге, потом зачерпывал ее ладошкой и предлагал возлюбленной.
- Нет, - сказала Валя, - я так не могу. Мне надо из чего-то.
И это "из чего-то" явилось. Я оглянулся - заводь, в которой цвели кувшинки, была под нами. Прыгнул под обрыв, прямо в ботинках и брюках брякнулся в воду, сорвал крупный лист кувшинки, вышел на берег, омыл лист в роднике, свернул его воронкой, подставил под струю, наполнил и преподнес любимой.
Она напилась.
И мы поцеловались.
Так что же такое посуда для питья и еды? Ой, не знаю. Не мучайте меня. Жизнь моя прошла, но не прошел тот день. Родники и лист кувшинки. И мы под небом.
Но до чего же красива река Лобань! Просто как девочка-подросток играет и поет на перекатах. А то шлепает босиком по зелени травы, по желтизне песка, то по серебру лопухов мать-и-мачехи, а то прячется среди темных елей. Или притворится испуганной и жмется к высокому обрыву. Но вот перестает играть и заботливо поит корни могучего соснового бора.
Давно сел и сижу на берегу, на бревнышке. Тихо сижу, греюсь предвечерним теплом. Наверное, и птицы, и рыбы думают обо мне, что это какая-то коряга, а коряги они не боятся. Старые деревья, упавшие в реку, мешают ей течь плавно, зато в их ветвях такое музыкальное журчание, такой тихий плавный звон, что прямо чуть не засыпаю. Слышу - к звону воды добавляется звоночек, звяканье колокольчика. А это, оказывается, подошла сзади корова и щиплет траву.
Корова входит в воду и долго пьет. Потом поднимает голову и стоит неподвижно и смотрит на тот берег. Колокольчик ее умолкает. Конечно, он надоел ей за день, ей лучше послушать говор реки.
Из леса с того берега выходит к воде лосиха. Я замираю от счастья. Лосиха смотрит по сторонам, смотрит на наш берег, оглядывается. И к ней выбегает лосенок. Я перестаю дышать. Лосенок лезет к маминому молочку, но лосиха отталкивает его. Лосенок забегает с другого бока. Лосиха бедром и мордой подталкивает его к воде. Она после маминого молочка не очень ему нравится, он фыркает. Все-таки он немного пьет и замечает корову. А корову, видно, кусает слепень, она встряхивает головой, колокольчик на шее брякает, лосенок пугается. А лосиха спокойно вытаскивает завязшие в иле ноги и уходит в кусты.
Начинается закат. Такая облитая светом чистая зелень, такое режущее глаза сверкание воды, такой тихий, холодеющий ветерок.
Ну и где же такая река Лобань? А вот возьму и не скажу. Она не выдумана, она есть. Я в ней купался. Я жил на ее берегах.
Ладно, для тех, кто не сделает ей ничего плохого, скажу. Только путь к Лобани очень длинный, и надо много сапог сносить, пока дойдешь. Хотя можно и босиком.
Надо идти вверх по Волге - матери русских рек, потом будут ее дочки: сильная, суровая Кама и ласковая Вятка, а в Вятку впадает похожая на Иордан река Кильмезь, а уже в Кильмезь вливается Лобань.
Вы поднимаетесь по ней, идете по золотым пескам, по серебристым лопухам мать-и-мачехи, через сосновые боры, через хвойные леса, вы слышите ветер в листьях берез и осин и вот выходите к тому бревнышку, на котором я сидел, и садитесь на него. Вот и все. Идти больше никуда не надо и незачем. Надо сидеть и ждать. И с той близкой стороны выйдет к воде лосиха с лосятами. А на этом берегу будет пастись корова с колокольчиком на шее.
И редкие птицы будут лететь по средине Лобани и будут забывать о своих делах, засмотревшись в ее зеркало. Ревнивые рыбы будут тревожить водную гладь, подпрыгивать, завидовать птицам и шлепаться обратно в чистую воду.
Все боли, все обиды и скорби, все мысли о плохом исчезнут навсегда в такие минуты. Только воздух и небо, только облака и солнышко, только вода в берегах, только родина во все стороны света, только счастье, что она такая, красивая, спокойная, добрая.
И вот такая течет по ней река Лобань.
Наташа и Лена дружили с института, куда Наташа прошла по звонку, а Лена - по конкурсу. Наташе, в общем-то, было все равно, где учиться, она по специальности не работала ни дня, диплом ей был нужен для замужества. Замужем она побывала, но недолго, разошлись легко и весело.
- Лен, - говорит она, - плюнь ты мне сочувствовать, - отрицательный опыт - тоже опыт. Ты сама не промахнись. Я ж тебя знаю, ты такая доверчивая, тем более так все переживаешь. Да чтоб я когда стала из-за мужиков переживать, это ж бревна, это ж "здравствуй, дерево".
- Нет, - ответила Лена, - если так думать, тогда зачем и муж? Я или по любви, или никак.
- По любви? Да где ты нынче любовь взяла? Очнись! Любовь! Ты еще сарафан надень да в хороводе суженого поджидай. Их дождешься! Их отлавливать надо. Но! Но знать, кого отлавливать.
- Нет, - твердо отвечала Лена. - Только по любви.
- Ну, - говорила Наташа, нервно закуривая, - пятая. Это я о сигаретах, сегодня пятая, все равно брошу. Любовь! Лен, я сама дура, и всяких дур видала, но такую дуру, как ты, - поискать. Любовь! А алкаша полюбишь, а идиота, а лупить тебя начнет? Любовь. А если сексуальное несовпадение? Вот тебе и обезпечено несчастье. Сидишь у компьютера и скажешь, что ни разу не посещала брачный отдел, а? Ни разу?
Лена, еще не разучившаяся краснеть, признавалась, что посещала.
- И что? И убедилась, что там никакой любви? Убедилась? Одни размеры бедер и груди, жилплощадь и требование к партнеру "не иметь вредных привычек". К партнеру! Любовь! - Наташу очень возмущало это слово.
Лена сопротивлялась. Приводила в пример родителей. Наташа тут же перебивала:
- Они отжили свое, забудь. Они из эпохи тоталитаризма, волюнтаризма. При культе личности родились, ужас! Ты послушай умных людей, послушай. Вчера Гриша… (Наташа очень любила демократов, называла их уменьшительно-ласкательно: Немцова - Немчик, Хакамаду - Ирунчик, Гайдара - Егорка, иногда Пумпусик, Чубайса - Рыжик, Явлинского - Гриша). Слушала вчера по НТВ, как Гриша одну старорежимную коммуняку уел? Вы, говорит, не учитывали в своей жизни многих привходящих извне факторов социальных обстоятельств, во как! А она чего-то вякала, что была счастлива, когда в бараке жила и завод строила, там и детей рожала. Представляю, кто из них вырос. Но вообще скажу, что этот состав Думы уже почище, уже жить можно. Аграриев уже воспитали, Гуся из Бутырки вытащили, неверных шагов президенту делать не дадим. Так что скоро выпрем на свалку истории этих мастодонтов. Немчик заявил, а он становится фундатором на место Рыжика, что будущее за нами. Вот тогда и о любви поговорим. А пока ты ее не жди. Ищи, пробуй варианты, надо же о жизни думать, о совместности. Пожить с одним, другим…
Тут Лена краснела окончательно и говорила:
- Как это пожить? Я буду верна только мужу. Бабушка говорит: с кем венчаться, с тем кончаться.
- Ну тебе хоть верть-круть, хоть круть-верть, ничего не докажешь. Ты ж у нас еще красна девица целомудренная. Кому ты свою девственность бережешь? В монастырь же не собираешься. - Наташу особенно донимало то, что у Лены нет мужчин. - Тебе понравится маляр со стройки, ему - пожалуйста, а если дипломат, человек высшего света, ему откажешь?
- Только по любви! - упрямо говорила Лена.
- Тьфу, - сплевывала Наташа, - с тобой никаких нервов не хватит. Вот из-за тебя шестую закуриваю. - Высший свет! О нем же только и пишут. Кто вошел в высший свет, тот может себе многое позволить…
- Что?
- Все. Дает интервью: "А я заявляю, что я гомосексуалист, вот так вот, и отстаньте от меня. Древние греки-философы были гомики, а я чем хуже?" В высшем свете девушек нет, с этим покончено. А у тебя ни одного даже любовника, стыд какой. Хоть бы уж курила, что ли! И не пьешь. И выругаться не можешь, роза-мимоза какая нашлась. Высшее общество стыда не знает, это все предрассудки. Нас начали американцы учить сексу, начиная с детского сада, пожалели нас, доллары тратят, а мы сопротивляемся, нам не нравится, видите ли, что детки научатся презервативом пользоваться, какие мы гордые… Ох, - говорила Наташа, - права Ирунчик: долго еще Россию воспитывать. Ты что, Ирунчику не веришь? У нее, знаешь, кто крестная мать? Новодворская. Вот это я понимаю, женский пол. Ох, Лен, отсталая ты, как Россия.
Но вот пришло такое время, когда отсталая Лена полюбила. Это Наташа сразу почувствовала. С языка Лены не сходило имя Петя. "Петя сказал, Петя говорит, мы с Петей…" Наташа увидела в Петре врага, еще бы, ее влияние на подругу стало падать.
- Петя, - говорила она, - имя какое. Уж хотя бы Эдуард, Руслан, Артур, хотя бы Влад, а то - Петя. И сколько он в клюве приносит? Что уже подарил? Брюлики? - так Наташа называла бриллианты.
- Прекрати! - говорила Лена. Она стала как-то тверже говорить с подругой. - Ничего мне не надо. Я чувствую, с Петей мне будет надежно и спокойно.
- Спокойствия захотелось. А бури, а восторги? А страсть? В болото он тебя тянет. Смотри, заквакаешь. Ты должна знать о нем все, поняла? Как Штирлиц: кто, откуда, имущество, связи…
- Я у него дома была. Приглашал, с родителями знакомил. Они раньше в бараке жили. Там и Петя родился.
- И что? Опиши квартиру. Техники много?
- Я ничего там не разглядывала.
- А чего ты там вообще видела?
- Мама хорошая, отец хороший. Называют Петю Петром первым, он у них старший.
- Так, значит, Петя еще и не единственный наследник? Ну ты, подруга, въехала. Повезет он тебя, твой Петя, на юг Франции?
- А зачем? У них, Петя сказал, садовый участок, домик.
- Домик! А конуру собачью тебе твой Петя не сулил?
Но и после поездки на садовый участок, который оказался и маленьким, и близким к железной дороге, Лена не разлюбила Петю. Единственное, чем смогла напугать Лену Наташа, так тем, что у нее и кожа лица не такая, и не такая фигура, что Петя ее разлюбит из-за этого. Это Лену испугало. Она выложила большую сумму за рекомендованные кремы и мази, стала делать маски, но вскоре заявила:
- Петя говорит, что вся эта косметика - глупость и нажива для капиталистов.
- Посмотри, посмотри, - Наташа нервно листала модный лаковый журнал, - вот реклама.
- А Петя говорит, что реклама, - это проститутка. Он говорит, хвалилась редька: я с медом хороша, а меду зачем хвалиться, он и без редьки хорош.
- Что твой Петя больше ведущих парфюмеров понимает? Больше, а? Они всю жизнь в этом бизнесе. А у тебя уж морщины у глаз.
Лена пугалась морщин, послушно пользовалась кремом, но вскоре заявила:
- А Петя говорит, что бороться с морщинами - это глупость, что у любимого человека и морщинки любимые. Что дело не в коже, а в женственности.
- В чем?
- В женственности. Что женственная женщина любима и желанна в любом возрасте. Да. А средство от морщин, кстати, вредно. Да. В нем в десятки раз больше жировых компонентов, чем надо коже. И это ее не молодит, а старит. Вот ты начни одно сало есть.
- Ну, Петя, - говорила Наташа. - Сам-то он, кстати, чем пользуется? В смысле, каким дезодорантом?
- Петя говорит, что дезодорант - это очень пошло, что это для охранников. Что русским дезодоранты не нужны, мы в бане моемся. И жвачка тоже очень вредна для желудка.
- Ну ты и достала ископаемое. Он, что совсем умных людей не слушает? И Кису (Киселева) не слушает? И Дорика (Доренко)? И Светика (Сорокину)? Слушал бы их, набирался бы ума. Лен, тебе задание - узнай у твоего Пети год и дату рождения.
- Я и так знаю. Петя ничего не скрывает. Он говорит…
- Ой, хватит, хватит! Когда у него день рождения?
- В январе.
- Козерог, значит. А ты Овен, овечка. Вы совсем друг другу не подходите. Совсем! Ты что, гороскопам не веришь? Их же тысячелетиями составляли. Цари верили. Македонский советовался с астрологами, а тут Петя. Козерог овечку забодает. Жизни тебе не будет. Все, Лен. Я предупредила. Не говори потом, что не знала.
Огорченная Лена замолчала. Однако через несколько дней сообщила: Петя говорит, что созвездия - это языческая глупость, и вообще всяческие гадания, экстрасенсы, ясновидящие - все нечистая сила.
- Да? И хиромантия? И карты? Тысячи лет миллионы людей гадали, а тут приходит Петя и объявляет, что все это глупость. Очень он умный, твой Петя.
- Да, умный, - твердо сказала Лена. - Петя умный, и я его люблю. И я тебя приглашаю на свадьбу.
- Какая свадьба? - завопила Наташа. - Не рой себе могилу! Ты же по японскому календарю мышь, а он змея. Змея тебя с костями проглотит, переварит и выплюнет. Зачем свадьба? Поживи по шведскому образу. Учись у Европы.
Но Наташа увидела, что ни Европа, ни японский календарь на Лену не действует, хотя на свадьбу пошла. Очень ей хотелось Петю увидеть. И как она ни настраивала себя заранее против Пети, все-таки поняла, что ее Ленке было кого любить. Высокий, спокойный, улыбчивый. А уж то, что он Лену любит, было заметно сразу. Когда Лена уходила на кухню, говоря свекрови: "Мама, я принесу" - то Петя только и ждал, когда она вернется. Возвращались, он прямо весь озарялся.
"Мамой называет, - шипела про себя Наташа, - вот семейка собралась! И квартира ей не нравилась - маленькая, видно было, что никакого в ней "евреремонта", как хохмили телекомики из телевизора, не было. И телевизора даже не было. Но Наташа видела - было главное, была любовь, и перед нею все ее любимые демократы, тот же Немчик, та же Ирунчик, Пумпсик, всякие Рыжики меркли начисто. "А сама я"? - спрашивала себя Наташа. И, может быть, впервые за долгое время честно призналась себе: "А ты - сучка продажная, ты ловишь кобелей двуногих, денежных. И так на тебя, как Петя на Лену, никто не смотрел. Подарили тебе перстень с брюликом, и что? "Мне миленок подарил золотые часики, и за это мне пришлось прыгать на матрасике". Свозили тебя на юг, использовали там всячески, и все. Он уже в самолете зевал, на часы глядел, не мог дождаться, чтоб отделаться. И встретили его охранники, и увезли как арестованного в черном джипе. А тебя затолкали в такси. А Ленка, уж точно, поедет на автобусе, зато с Петей. И ходит Петя без охраны и не боится никого".
Ах, как же захотелось Наташе такого Петю. Причем, опять же, может, впервые Наташа не думала о том, какой Петя мужчина, а просто: какой человек!
Дома Наташа немного поплакала, стала листать телефонную книжку. Звонить было некому. Наташа умылась, никакого ночного крема на лицо не нанесла. "Зачем? Петя не терпит косметики". Утром ее разбудила Лена.
- Наташ, так много всего осталось, приезжай, будем доедать. Жалко же, все же домашнее. - И весело засмеялась: - Петя где-то вычитал, что муж, если он ест что-то, не приготовленное женой, частично ей изменяет. Приезжай. Ты Пете понравилась. Я рада.
Поеду, решила Наташа. Ехала и думала: "Частично? А как это будет, подруженька, когда будет не частично?" Да, Наташа всерьез решила взяться за Петю. Как? О, арсенал боевых приемов по захвату в плен мужского сердца у Наталии был велик. "Это у куриц домашних, у клуш лежит путь к сердцу через желудок, возьмем интеллектом. Тут-то уж я Ленке сто очков вперед дам".
Но не будем до конца раскрывать маленькие женские секреты, скажем только, что Петя пока держится. А как дальше? Наташа же влюбилась. И всерьез, впервые в жизни.
Петя, держись!
Правдивейшая история о том, как Вася Заремба, коммунист и зять генерала, при социализме чуть не попал в тюрьму, но был спасен демократами, о том, как те же демократы Васю погубили, о том, как Вася попал в лапы к протестантам, а потом прозрел.
Рожденный в эпоху культа личности, Вася Заремба возрастал при волюнтаризме, а начинал озираться по сторонам во времена застоя. Дивно ли, что Вася вроде и не жил, а все готовился жить. Брошенный отцом, забытый матерью, Вася кое-как учился, чашки за собой не мыл, постель не убирал, любил жвачку, развлечения и американско-японское кино о деньгах, разврате и драках. Из школы Васю еле-еле вытащили за волосы, ибо было обязательное среднее образование.
До армии Вася слонялся по компаниям, рассказывал анекдоты, научился красиво сплевывать, а в армии служил так, чтобы все знали: Васе ничего нельзя поручить, кроме дежурства на кухне и работы на складах - вещевых, продовольственных и горюче-смазочных материалов. На складах Вася прошел школу жизни. Он усвоил три правила: во-первых, под боком у начальства всегда бардак, во-вторых, надо уметь попадаться начальству на глаза, в-третьих, надо уметь пить и не надо болтать. А уж что и куда толкаешь, какие тюки и вагоны, какие канистры - это все твое личное дело.
Вася остался на сверхсрочную. Это было очень по нему: еда и одежда, проезд и все остальное - не его забота. И с квартирой решилось, так как Вася женился на капитанской дочке. Женитьба была и по любви, и по расчету.
По пословице про веревочку, которая вьется, но до поры до времени, Вася попался. И попался-то глупо: списал десять кубометров леса на забор вокруг части. Кто-то случайно посмотрел, а забор-то бетонный. Ох, и горевал потом Вася, что случилось это не при Ельцине, Вася бы и бетонный вывез.
Пошел Вася служить в милицию. Там пастись было очень можно. Тесть-капитан к этому времени стал тестем-полковником и содействовал. Но вот шутка: жена прапорщика - это одно, а жена, которая полковничья дочь, - это другое. Ее одеть нужно, ее нужно на курорт отправить, ей нужно гостей принять по-человечески, ей надо и в гости сходить. Тебе принесли подарок, и ты тоже неси. Эту же вазу, которую подарили и все видели, ее же не понесешь, люстру неси. А люстру поди купи. А у полковничьей дочери друзья не какая-то шпана сверхсрочная, они хрусталь от стекла как-нибудь отличают, и фарфор от глины отличают, и ковер люберецкий от цыганского тоже. Но при Васином умении списывать новую технику в старую, а потом продавать ее опять за новую прихоти жены он преодолевал. Да и сам, в общем, был уже давно не такой сибирский валенок, каким начинал, уже успел полюбить двух гитаристов-певцов, Высоцкого и Окуджаву, потом, по ходу жизни, разлюбил - их органически вытеснили группы "Лесоповал" и "Дюна", так что жил Вася наполненно. Только вот в отпуск не любил уходить. Не из-за рьяности к работе, а из-за того, что домой ничего не нес. И от этого уснуть не мог. Так он как придумал: перед сном закидывал свою фуражку к соседу во двор, потом украдкой лазил за нею - и уж тогда, счастливый, засыпал.
Но как ни возрастало Васино умение жить, попался Вася и в милиции. Он, как он выражался, прокачивал, продавливал очередную партию "уазиков". Он их реализнул своему начальнику, а Васины хлопцы их сперли. Начальник дело размотал, но, чтоб скандала не было, Васю не мочил, в ментовку не сдавал, а просто из органов попер. И как не попереть - сам начальник в Прибалтику цветной металл прокачивал.
А тесть уже тем временем генерал, а жена Васи к тому времени - генеральская дочь. Определился Вася в пожарные, осмотрелся. О, да тут не все со шлангами да с лестницами бегают, не все дымами дышат, тут тылы есть, тут фуражку не надо в чужой двор кидать, есть чем заняться. К тому времени у Васи и армейских, и милицейских соратников накопилось изрядно. Вася их делил по сортам. Одни надыбывали, где, в какое место чего натаскано-наворовано, другие поджигали разными научными методами, например, химической смесью, третьи ехали пожар тушить, а имущество спасали в свои машины. Приезжал и Вася, писал протокол. Скребя в затылке, сочинял причину: от неисправной проводки, от небрежного обращения с газом, от курения в постели в такой-то стадии опьянения или для разнообразия: причина выясняется.
Но вот невезуха - и тут Вася сгорел. Сгорел, когда в пожаре сгорели люди. Они и раньше горели, но тут двое спаслись и узрели, что пожарные тащат то, что уже утащено. От великой радости, что живы, и от великого огорчения, что у них воруют наворованное, эти погорельцы настучали на Васю. Вася пробовал их заткнуть, подмазать, но затычка и подмазка очень намного превышала стоимость нарядов генеральской дочки, и Вася ушел по собственному желанию.
"Но работать все равно не буду!" - твердо сказал себе Вася. Тут, на Васино счастье, состоялся август 91-го. Пошел Вася на игрушечные баррикады защищать демократию, вернулся пьяный и с банкой ветчины. Но он ее там не крал, ее там даром давали.
Очень были рады демократии Васины кореша - воры армейские, воры милицейские и воры пожарные. Вышли из подполья и воры-торгаши. Все они ходили по митингам и драли глотки за демократов. Очень нравились Васе и его компании крики всяких новозадворских о том, что коммунистов надо вешать. Естественно, что и Вася, и дружки были до роспуска компартии в ней, но теперь оказалось, что они были самые настоящие герои, ибо специально были плохими коммунистами, чтобы подрывать партию изнутри, а вот были и хорошие, честные коммунисты - вот их и надо вешать.
Воровать стало вольготно. Воровали в открытую, только одно досаждало - стрельба. Вот, например, кто-то много украдет, а другой меньше, ему и обидно. Он выпьет, да и давай стрелять. Но Вася был осторожен. Жена его уж и не знала, в какую бы еще страну съездить, на каком бы еще пляже полежать. Она даже и Васю выучила выговаривать слово "Копакабана". А вот папаша ее уже ничего не выговорил: не выдержали его легкие воздуха свободы, задохнулся генерал, лег в гроб в своем полном обмундировании, которое с него к ночи сняли и на Арбате продали.
В генеральской квартире стали жить, а свою сдавать за валюту. Вроде бы живи и радуйся, но жена, как старуха из сказки о рыбаке и рыбке, все была недовольна.
- Сволочь какая, - говорила она подругам о муже, - ничего не умеет.
- Как это так ничего? - возражали ей. - Да у тебя всего с краями. У нас и на стенах того нет, что у тебя на полу.
- Барахло-то и дурак натащит, - отвечала на это Васина жена, - я не о том, я о том, что у него руки не оттуда растут. Ничего не умеет, гад ползучий. Тесто раскатывает - толсто, стирать начнет - наволочки рвет. Борщ варит - свеклу крупно нашинкует, ну и не сволочь? А пол моет - только грязь развезет, такая свинья. А гладить примется - на блузке одни морщины. Поживи с таким!
- А ты сама? - осмеливались спросить подруги.
- Когда мне, - возмущалась жена, - я встаю к обеду, пока причешусь, уже вечер, пора в гости. Когда мне? Не-ет, пусть Васька хоть наизнанку вывернется, но что-то делает…
Вася не был бы Васей, если б не нашел выход. Он привел в дом служанку. Служанка нравилась Васе как женщина, а Васиной жене нравилось, что у нее еще, кроме мужа, появилось, на кого кричать.
Для этой служанки, которая для удобства жизни стала его любовницей, Вася снял квартиру. И очень полюбил суточные наряды. Ночевал, естественно, у служанки. Жаловался ей на жизнь и на жену, служанка жалела Васю и тоже говорила о трудностях.
Содержать жену и любовницу было сложновато, но при Васиных талантах к махинациям сложности он преодолевал. Вася вообще человек был не жадный. Если купит жене перстень, то и любовнице тоже купит.
После дежурства Вася шагал домой, где уже шипел на него сиамский кот, а в бассейне передвигались рыбки, шевеля водоросли.
Детей своих (ведь были же у Васи дети) они с женой отправили в Америку, в которой дети так и остались, даже выучили английский для всех, а русский забыли. Когда они один раз вернулись, то с Васей на русском не разговаривали, а английского он не знал. Но мама их, жена Васина, видимо, знала, они же с нею как-то договорились. Договорились до чего? Или о чем? А о том, что вскоре она тайком от Васи продала две квартиры, свою и папашину, две дачи, две машины, перевернула рубли в драгоценности, сложила их в сумочку, сумочку повесила на шею, напоила Васю и…
И утром он проснулся, услышав в коридоре стук кованых сапог, в квартиру вошли люди, лишенные эмоций, в земной зелено-желтой форме, символизирующей единение желтого рубля и зеленого доллара, в ней, в форме, было бы удобно ползать по джунглям. Сейчас они поползли по просторам квартиры, сверяясь с обстановкой и со списком в руках. Обозрев и отметив галочками (ковры, хрусталь, мебель), заглянув в бассейн, отопнув ногой сиамского кота, люди в форме убедились, что все соответствует, но что в квартире есть что-то лишнее, которое в списках не значилось. Это лишнее был Вася. Васю выкинули. Как? Да вот так: взяли и выкинули. Причем это же не была какая-то шушера, по имени их начальника Гавриила.
Стал Вася очень бедный. Показали дружки Васе кукиш. Пошел Вася к подругам, они не все показали кукиш. Одна накормила один раз, другая, новая русская (кстати, бывшая служанка), даже выпить дала, даже предложила дачу охранять. Отправился Вася на просторы дачного пространства, а там запил, что при его положении очень естественно. А тут новая русская с проверкой. А Вася лежит в борозде, причем не в позе, удобной для прополки, а в позе для просушки организма. Когда новая русская сюда же приплюсовала частичное опустошение винных запасов, убыль солений и копчений да еще услышала крик из-за бетонной ограды: "Васька, гад, где похмелка?" - то в результате такой арифметики Вася был разбужен, в дом больше не впущен, из дому был вынесен пиджак с проверенными карманами, и Васе было указано на выход.
И пошел Вася, палимый солнцем демократии и провожаемый лаем старой собаки новых русских. А ведь, сволочь такую, еще утром кормил тушенкой.
Стал Вася бомжем. Жил, скитался по вокзалам и чердакам. На хлеб и пиво собирал бутылки, всяко шакалил. От мебельных магазинов гнали: там была еще та мафия, да и не те уже были мышцы, чтобы комоды таранить. Гнали и от пивных: тоже своя клиентура. Как и в винно-водочных.
Зацепился Вася за оптовиков-книжников. Получал от них товар - всякие книжки в цветных обложках - и продавал по пригородным поездам. Велели говорить фразу, что в электричке книги в три раза дешевле, чем на лотках. Я его услышал, когда ехал с Ярославского вокзала до Сергиева Посада:
- Впервые на русском языке! - В вагоне почти никого не было, подвыпивший Вася подсел ко мне и разговорился про свою историю жизни.
- Хорошо, - спросил я, - вот ты всю жизнь воровал, не работал, а дальше что?
- Дальше мне подыхать, - отвечал Вася Заремба.
Мы подъезжали к Сергиеву Посаду. Вася шел на обратную электричку, а мне, вроде как в благодарность за его рассказ, пришлось купить роман. Я даже в него заглянул, перед тем как выкинуть, наткнулся на такое место: "…надевая на вечер новый скафандр, Эола наконец решилась сказать Джону, чтобы он не играл более на бирже на повышение инвестиций компании Пьера, ведь Пьер связан с Джуди, а она опасна. О, Пьер, думала Эола…"
Думал ли я, прощаясь, что скоро еще увижу Васю. Дело было уже после октября девяносто третьего года. В субботу пришел ко мне сосед и принялся переключать программы телевидения. И вот - он не даст соврать - по трем, я повторяю: по трем программам вещали заезжие проповедники. Все бритые, все англоязычные.
- Выключи, - сказал я соседу, - не оскверняй квартиру их кваканьем. - И вдруг… и вдруг увидел… Васю. Вася на экране телевизора сидел в кресле. - Стоп, оставь!
Мы вслушались. Оказывается, пастор по фамилии, кажется, Шуллер обещал, что сейчас вот этот больной всю жизнь (это Вася-то всю жизнь?), сидящий в кресле, встанет. Произойдет чудо исцеления. И если еще и после этого зрители (дело было в каком-то кинотеатре), если еще и после этого зрители не поверят в адвентистов или баптистов, или евангелистов, или там мормонов, я не запомнил, то Шуллер даст руку на отсечение.
Женщины в годах, все в белых платьях, стоящие сзади Шуллера, спели какую-то песню. Васю подкатили поближе, и Шуллер закричал на него через переводчицу:
- Ты исцелен, ты исцелен! Милость Божия снизошла на тебя! Вставай!
Вася силился встать, но, видно, не мог. Шуллер делал над его головой движения руками, вроде тех, что совершают разные чумовые джуны.
- Встань и иди!
В общем, Вася встал. Вначале изобразил, что ему трудно, потом пошатался, сделал шаг, другой, третий. Шуллер неистовствовал, орал в микрофон, зал хлопал. Крупным планом показали подсадную (плачущую) утку.
Долго ли коротко ли опять я встретил Васю все в той же электричке, идущей к Сергиеву Посаду. Вася вновь торговал.
- Ну, Вася, - сказал я вместо приветствия, - видел я, видел, как ты на врагов России работаешь. Что ж ты, уж совсем одичал, не видишь, что все это жулье и шпана, все эти билли грэмы, всякие фин-дифигли, всех их у себя давно не слушают, они сюда подрядились ездить и здесь пакостить.
- Шпана, это точно, - отвечал Вася, - я их изнутри изучил, а из-за этого телевидения я заработка лишился. Как теперь по гастролям ездить, когда кто-нибудь меня видел?
- А вы гастролировали?
- Круглосуточно! Везде зеленый свет. Эти волокут с собой всякую технику, видики, радиотелефоны для подарков, залы снимают. Они же меня на улице подобрали. Ты только часть видел, у нас же там еще он садится в каталку, а я его сзади толкаю, вроде как окончательно исцелел. А то с костылями выходил. Он пошаманит, пошаманит, руками помашет, кричит через переводчицу: брось костыли, брось! Я отбрасывал. Жрать захочешь, - отбросишь. Ты ж видишь, - Вася показал на безчисленные надписи на безконечных заборах вдоль железной дороги. В надписях кратко излагалось народное отношение к демократическому строю. - Свобода, - сказал Вася, понурясь, - ори что хошь, но все равно подыхай.
- Ну на гастролях-то ты, думаю, пожил.
- О! - Вася поднял голову. - Отдельное купе, ужин в купе. Меня до сеанса нельзя светить, прячут. Я там у них много чего приватизировал. Удобно компьютеры воровать: маленькие. Но тоже почти безполезно, кому они сейчас нужны? Вся цена - пузырек.
- Вася, - спросил я, - а ты крещеный?
- Не знаю.
- А эти, баптисты или как их… свидетели Иеговы тебя окрестили?
- Нет. Я и не хотел. Уж больно какой-то цирк, несерьезно. Вообще, я хотел их изнутри взорвать. Думаю, вот вывезут, вот надо показать чудо исцеления, а я возьму и не исцелюсь. Вот, думаю, вы попляшете. А опять как подумаю, что деньги дают, кормят, можно чего и оприходовать, тогда, думаю, нужно исцеляться. А ты как думал! - Вася и не спросил, а как бы за меня ответил: - А то я сунулся к "Белому дому" в октябре, дорожка знакомая, думаю, подхарчусь, думал, как в августе 91-го, будут поить. А там не то чтоб кормить, там по морде получил, да еще от своего, от бывшего. Вместе воровали. Меня лупят, вижу знакомого красноперка (ментов же красноперками зовут, по цвету петлиц), кричу: "Витька!" А Витька, как неродной, а его дубинники меня лупят. Тут пойдешь на арену. Но чего ж теперь: со мной расстались, не успел я им навредить.
- Давай, -предложил я, - в Сергиевом Посаде выйдем - и в Лавру к преподобному Сергию.
- Я еще не созрел, - отвечал Вася, - я еще где-то на подходе. Тут дорога такая, я ж вижу, непростая. Тут бывает, что едут старухи и не присядут, ходят насквозь электричку, от хвоста до головы. Я спрашиваю, чего не сидится, говорят: надо бы, по правилам, идти в Лавру пешком, а тут хоть так. Я созреваю. Я еще, может, и литературу буду продавать религиозную.
- И когда ты созреешь?
- А вот еще раз встретимся, тогда.
И ведь встретились же мы с Васей, встретились. Да еще как! Я сижу читаю. Поезд идет на Сергиев Посад. По проходу идет женщина-книгоноша и так четко, уверенно сообщает, что у нее книги дешевле, чем на лотках и в магазинах, в два раза, а за нею идет Вася, который ничего не рекламирует. Увидел меня, обрадовался, как родному!
- Жена! - радостно представил мне Вася женщину. - Американка!
И что же оказалось? А оказалось все так просто, что даже долго и нечего рассказывать. Жена Васи, бросив его, фактически обокрав, улетела к детям, а там дети, воспитанные передовой цивилизацией Америки, обчистили ее. То есть как обустроили: она вложила деньги и драгоценности в их дела и… стала лишней. Ее под предлогом устройства американо-российских связей их фирм посадили на самолет, дали адрес, куда ей надо прийти, и помахали рукой. Она пришла по адресу, но там не только фирмы, но и адреса не было. Вот и вся история.
Вася увидел жену, когда и она и он сдавали бутылки в приемном пункте.
Утешать супругов мне не пришлось, оба они враз говорили. Что так им и надо, что богатство их было нечестное, что оно и детям в пользу не пойдет. Детей вот жалко.
- А внуки, - заплакала женщина, - уже ни слова по-русски.
- Но как иначе, - защитил их Вася, - они же новые русские.
На прощание Вася с гордостью сказал мне, что носит крестик на груди, что жена тоже носит, что живут они из милости у ее бывшей подруги.
- И у твоей тоже?
- Нет, у другой. А та-то с дачей и дочерью куда-то пропала. Я ездил, там теперь какие-то новые с Кавказа. И собака другая. Ничего, даст Бог, встанем. Я еще думаю, может, в компартию поступлю. Ты за кого будешь голосовать? Это же надо, до чего довели богатейшую страну.
Жена позвала Васю. Они ушли дальше.
Может, еще и встречу их когда. Может, и из вас кто встретит, они по электричкам Ярославского вокзала ходят. По тем, которые идут на Сергиев Посад.
Старинный двухэтажный дом старинного села на старинном тракте. Еще мощные стены, потолочные перекрытия, помнящие столыпинские времена. Вот крыша плоха, крыша течет. Я живу на первом этаже - мне меньше достается осадков, а на верхних льется с избытком. Но они, я заметил, не очень-то горюют. Живут весело. Там их, на втором этаже, три женщины. Про одну, с двумя ребятишками, сказать ничего плохого не могу, а две другие круглосуточно в вихре удовольствий. Одна вроде разведена, другая вроде с Кавказа, Гуля и Виктория, вот они, вернее, их клиенты, доставляют мне много неприятностей. Главная неприятность - шум и ругань. Нашествие пьяной мужской части человечества усиливается к ночи, нарастает к полуночи, стихает к утру, утихает до полудня, возобновляется с обеда. Столько мужичков в иную пивную не ходят. Под окном забор. Некоторые посетители второго этажа бодаются с ним. Бодаются с переменным успехом. То забор валит мужичка, то мужичок - забор. По пьянке один парень ввалился ко мне. Покрутил головой, осознал, что попал не туда, но фасон держал.
- Вы старовер? - сурово спросил он.
- Нет, православный.
- Дайте пять рублей. Лучше десять.
Я отдал, но не понял, за что плачу: за то, что я не старовер, или за то, что православный? Другой орел, может, уже по наводке первого пришел, постарался сесть прямо и сообщил, что много кой-чего знает. "Про Афган, имею в виду. Учти - это совсекретная информация". Ничего из совсекретности я не узнал, но узнал, что он желает продолжения праздника.
Вскоре со мной перестали церемониться. Врывались и хрипели:
- Не дай помереть! - то есть выдай сумму.
Умение состричь с меня нужную сумму бывало иногда изысканным. Не всегда же по-нахалке просили. Вот взять Аркашу: все умеет - плотничать, плясать, но главное - выпить. Моих лет, но рядом поставить - я выгляжу стариком, а его до сих пор жена ревнует. Не знаю, может, напрасно, может, нет, я о том, как Аркаша утонченно извлекает из моего кармана средства.
Вот я приехал, еще и бумаги не разложил, Аркаша сидит. Ничего не просит, только очень-очень сокрушается:
- Ёк-макарёк, что б тебе было вчера приехать, а? Аль погода задержала, аль другую любишь ты? Вчера не мог никак приехать, а? - Значит, не мог. - И спрашиваю неосторожно: А что вчера?
- Вчера, только вчера, - восклицает Аркаша, - я отдал ведро черники за бутылку! Ведро! Хоть бы кто подсказал литра бы два тебе оставить. Я ж дурак - и башка трещит, и черники нет. Оно бы, Николаич, твое было, оно же для тебя предназначалось, это ж черника! Я Нине говорю: Нин, вот бы Николаичу это ведро, съел бы - сразу бы без очков газету читал. Это ж черника! Да-а!
Аркаша так убивается, что я понимаю, что должен Аркаше бутылку. Одну, всего одну за целое ведро. Аркаша приходит через несколько дней и спрашивает, когда я уезжаю.
- Завтра? Точно? Обязательно надо? Конечно, дела. А остаться никак не можешь?
- Нет.
- Жаль! - почти радостно восклицает Аркаша. - Ведь у меня послезавтра будет ведро черники, тебе б за бутылку отдал. Это ж черника - царская ягода. Ведро за бутылку где купишь? Разве в Москве купишь ведро за бутылку?
- Смотря какая бутылка, смотря какое ведро.
Аркаша смеется, шутка моя кажется ему очень остроумной. Ему смешно, а я опять ему должен бутылку. В самом деле, почему я уезжаю завтра, ведь послезавтра у Аркаши именно для меня будет целое ведро. Приходится платить. Уезжаю без черники, но все-таки хоть Аркаше ничего не должен. Он, пьяненький, провожает меня, поет: "Ребят всех в армию забрали, хулиганов, настала очередь моя. Мамаша в обморок упала с печки на пол, сестра сметану пролила".
- Николаич, приезжай за брусникой! - и пытается плясать.
Когда я приезжаю осенью, история повторяется: никакой брусники нет. Но была вчера. Я же виноват, почему ж вчера не приехал. И грибов нет. Но будут. "Не уезжай ты, мой голубчик", - говорит Аркаша, и я исправно плачу ему за такое усердие в деле добывания для меня лесных даров. А Аркаша, оказывается, и стихи для меня сочинил: "У лукоморья дуб спилили, златую цепь большевики пропили, на кота уж кандалы надели, в зоопарк свели, а сами к лешему пошли".
Не всякий поэт отважится выступить в соавторстве с Пушкиным. Как не вознаградить такую отвагу?
Да, но домик наш старинный содрогается от грохотания пьяных ног по лестнице, от биения кулаками в двери, иногда не в те, от нечленораздельной громкой речи, в которой воспоминание о матерях - основное. Интересно, что, когда весь день играют под окном или в коридоре ребятишки, это мне не только не мешает, но и настраивает на работу, а этот пьяный шум расстраивает.
Но вот, чтоб не сглазить, третий день в доме тихо. Сижу, гляжу, как темнеют от короткого дождя и быстро сохнут тротуары, как возится под березой неугомонный песик Тотошка, как тихо и умиротворенно колышутся ветви, - так хорошо! А все кому спасибо? Спасибо Татьяне, Тане-капустихе, как она в шутку про себя сказала. Уж не знаю, надолго ли, но посетителей второго этажа она отвадила.
Пришла она, кстати, тоже не просто чаю попить, ей надо было добавить к имеющейся сумме еще сумму. Но не тягостную для меня. Таня охотно согласилась выпить чаю и объяснила, что им с мужем надо поправить здоровье после отмечания дня рождения бабушки.
- Гулина Мария Самсоновна. Мне вместо матери. Мать у меня всю жизнь по тюрьмам. Сидела за аборты. Попалась за такой бизнес. Я вам скажу версию, вы поймите: семимесячный аборт - это же убийство. На семь лет. Отец был, но молодой же, охота попить-погулять. Сапожник. Звали Вася-капустик. Остались с бабушкой: я - полтора года, братики - шесть и восемь. Да-а, мать загремела. А та-то сама просила. Нагуляла, некуда деваться, три дня у нас лежала. Не она, родные подали в суд. Они-то, вишь, хотели ребенка. Чей бы бык ни прыгал - телята наши. И мы остались с бабушкой. Бабушка на свою зарплату, она была санитаркой в морге, какая там у нее зарплата - минималка, а нас подняла. Садимся чай пить: вот вам по конфетке, по печенюшке. Мы растягиваем их, понимаем, что такое конфета. Братики начали подрабатывать, жили рядом с базаром. Кому чего поднести. Но ни в жизнь не воровали. Честно! Ходили рыбачить, продавали. Опять рубль или два бабушке несут. Я посуду мыла, пол, крыльцо мела. Жили вчетвером на тридцати метрах. Семь лет кантовались, по-русски сказать. Мать пришла, привезла кучу денег, газету, там про нее - передовик труда. Меня снарядила в первый класс, одела как куклу. "Таня, я не шлюха, не вор, я честно заработала". Так одела, что я боялась на стул сесть, платье измять.
Таня вздохнула. Я еще ей налил чашку.
- Полгода, полгодика с мамочкой, косы заплетала, бантики гладила, полгода. Опять к ней пришли, просят. Не смогла какая-то стерпеть, подставилась, в больницу боится. И тут - аборт со смертельным исходом. Снова семь лет. Когда второй раз вернулась, мне уж было пятнадцать.
Тут над нами раздались звуки пьяной разборки. Таня встрепенулась:
- Опять они! Ну!
- Татьяна!
- Я не матерюсь. Никогда. Я молитвы читаю. Читаю "Отче наш" и свои: "Мать Пресвятая Богородица, помоги и спаси", "Господи Всемогущий, дай мне хлеб насущный". И есть всегда на хлеб. Но эти же другого языка не понимают. А мой поймут.
- Вообще, Татьяна, может, они не думают, что ругаются. Достоевский говорил, что у русских сквернословие есть, а скверномыслия нет.
- У них ничего нет, у них одно.
Звуки работы усилились. Таня отодвинула чашку и решительно шагнула за порог. Наверное, так шли добровольцы на врага. Я шагнул за ней. Она уже резко считала ступеньки, резко и громко стала - материла, но так она их полоскала, не упоминая имени матери, что я изумился. Увы, это непечатно. Пусть цензуры и нет, но есть же чувство белого листа. Как его очернить руганью? Я понял, что мне подниматься не следует, ибо после Таниного выступления наступила тишина.
Таня вернулась, я налил ей еще чашку. Очень довольная, она позволила себе взять дольку шоколада и сказала:
- Крыша у них течет, так кобелями сверху прикрываются.
- И много их там?
- У этих-то? А сколько вытерпят, - хладнокровно ответила Таня и продолжала про бабушку.
Я же с изумлением ощущал тишину в доме.
- Бабушка, конечно, выпивала, но, конечно, они выпивали не как мы. Берут красненького одну, их четыре старушки, еще два старика-инвалида, вынесут во двор стол, во главе тетя Валя с балалайкой. Выпьют по стопочке, и тетя Валя - пошла на балалайке! Мы же вчера-то в честь дня рождения бабушки собрались. Детишкам мороженое, печенье, нам чего другое. Муж закалымил сто двадцать: "Иди, Таня, за вином". Сидим, я любимую бабушкину запела "Ой, мороз, мороз", вот так сейчас спою. - Таня спела куплет. - Спела, муж говорит: "Дак ниче, песню не испортила, не орешь во всю глотку, - говорит: - Ак допой давай". А-а, говорю захотелось - допой. Еще была у бабушки, - Таня запела: "Вот кто-то с горочки спустился". Муж говорит: "Ак, Тань, голос-то у тебя хороший". Я говорю: а чего ему плохому быть, я ведь его не пропила, не проорала, я ведь женщина, должна меньше пить. Женщина, - сказала Таня назидательно, - за столом не присядет, постоянно в движении, принести-унести, кому закурить подать. А я сильная. Я вес чувствую, я тяжести не чувствую, я сегодня гроб с одной стороны одна подняла. С другой - двое мужчин. Со стороны ног легче: в головах мысли, а в ногах одна беготня. Я больше своего веса поднимаю. У меня одни мышцы. Я могу и литр, и два за ночь выпить и опять бегу работать. Женщинам меня не перепить. Только надо покушать. Суп, колбасу, консервы. Пью не залпом, не галопом. Выпила, поставила, закуски, разговоры, потом опять. С промежутками пьешь - и все в том же состоянии, что вот сейчас и сижу.
- Слушай, Таня, я так тебе благодарен, ведь сидим-то в тишине, ведь замолчали.
- А вы, если что, звоните. Их надо так вразумлять. Я перекрещусь, в три этажа загну, сразу, блин, понимают. Знаешь ведь, чем дальше в лес, тем толще партизаны. Это присказенька такая.
В тишине я жил и следующий день. Осторожно ходил в магазин, на реку, зорко смотрел вперед и по сторонам, не притаился ли в зарослях уличных деревьев и кустарников, как щука в осоке, Аркаша. Нет, видно, куда-то уехал. Подстерег меня не он, а другой мужчина.
- К вам посоветовали обратиться, говорят, иди, он соображает.
- В чем я соображаю?
- Как с женой поступить.
- Ой, нет, в этом я не соображаю.
- Да у меня просто. У меня сахар еся, мука еся, огород еся, поросенок еся… чего ей надо?
- Не хочет быть крестьянкой, хочет быть столбовою дворянкой?
- Этого не замечал. Все же еся. Ну не люблю я ее, ну и что? А ей вынь да положь какую-то любовь. Мука же еся, какая ей любовь?
- Женщине, - сказал я, - не только муки и сахару надо, чтоб любовь была еся.
Вернулся домой. На крыльце дамы со второго этажа. Трезвые, виноватые, прилично одетые.
- Ну что, красавицы, не надо звать Татьяну Васильевну?
Они как-то смущенно похихикали и сообщили, что едут в деревню.
- Принудительно? Добровольно?
- Тут, если кто придет, скажите, чтоб больше не приходили, - стали поручать мне дамы.
- Нет, я на это не гожусь, - сказался я. - Татьяну позову.
Они опять похихикали. На том и расстались.
К вечеру началась гроза. Далекие, слабо озвученные молнии неслись параллельно линии горизонта, тут же их сверху вниз перечеркивали другие, словно десница Всемогущего крестила темное нашествие туч с запада. Гроза подошла вместе с ливнем, молния уже не отделяла свой высверк от удара грома, все покорствовало стихии, деревья свежели, мокли, темнели, песчаная дорога набухла и запенилась, мальвы и георгины в палисадниках кланялись до земли.
И тут же, еще не отдождились, встала радуга. Такая четкая, широкая, как в детстве на коробке цветных карандашей. Она будто показала, какое там, в потустороннем мире, сияние, будто ее специально выпустили в щелочку неба, как солнечный лучик в темницу, для утешения и ободрения.
А ближе к ночи начались тихие, безмолвные зарницы. Они были с другой стороны уходящей грозы, тянулись за ней. И гром, рождаемый молнией, что-то говорил зарнице, но ревнивая молния уводила его к востоку.
Как горько, как отрадно пахнут осенние флоксы, как безропотно вянут отцветающие гладиолусы, и пчелы торопятся в последний раз навестить их.
Золото лугов, мелеющая река, тихие голоса светлых родников, серебристые ивы над мокрой тропинкой, неугомонное шевеление и щебетание растущих птенцов. В небе - парящий крест чайки. А выше - облака, облака, за ними - небесная твердь. А за ней - вечное золотое сияние всех цветов радуги.
Ночью на темном небе молодой месяц, будто начали промывать небесную твердь и уже процарапали золотую запятую. Как же хорошо жить, и за что нам, таким скверным по плоти и духу, дана такая радость?
На Святую Пасху Христову солнце играет на небе. Смещая все законы зримого мира, солнце просто прыгает, резвится в небесах от счастья Воскресения Иисуса Христа. И это очень легко увидеть и верующим, и неверующим рано утром, в каждую Пасху каждого года.
Но я слышал, что солнце играет и на Благовещение. И нынче в первый раз это увидел. После причастия в день Благовещения вышел из храма и оглянулся на его крест. Солнце над ним свершало непонятное для моего разума. То увеличивалось, то сжималось, светлые ленты пересекали его, цвет оранжевого круга сменялся желтым, потом белым, языками пламени выкидывались во все стороны.
"День спасения нашего главизна", - говорится в молитве празднику благовещения. То есть Благовещение - главный день в нашем спасении: архангел Гавриил возвестил Пречистой Деве Марии весть о рождении Ею Иисуса Христа, Сына Божия. Страшно представить, что было бы, не будь этого дня. Не было бы нас, не было бы Божия мира. Ведь уже был один мир, первый допотопный. Где он?
В этот день я приехал в свой дом, в Никольское, и, хоть и знаю, что в Благовещение девица косы не плетет, птица гнезда не вьет, стал сгребать прошлогодний мусор, говоря себе, что это не работа, а счастье. Счастье сделать нарядным и чистыми хотя бы эти две сотки земли.
И нагреб груду сухого мусора. К ночи решил его сжечь. Надумал сжечь у ворот, на траве, с которой всегда борюсь. Это было жестоко для травы. Я знал, что ожог от костра не проходит на земле три-четыре года. То есть фактически я выжигал дорогу к дому.
Мусор запылал. Так вскинулся огонь, что отогнал меня в сторону. Но скоро утих, стал дожирать горстки и то, что я подгребал с краев. Вскоре огнь и вовсе погас, редкие лоскутки пламени цеплялись непонятно за что, но и они гасли, и остались уголечки. Уголечков в разных местах пожарища было много. Будто это пожарище было живой картой мироздания. Такие на ней были созвездия, мерцающие и гаснущие, такой цвет закатного солнца, будто я присутствовал при кончине миров.
Я сидел у ворот, сидел так отрешенно, что не смог бы сказать, долго ли сидел. Очнулся и вдруг услышал много звука окружающего мира. Где-то далеко проезжали машины, где-то близко лаяли собаки.
И уже было темно. Только алые светлячки среди пепла и звезды вверху.
Но будет же утро. И хотя бы завтра не будет луна как кровь, не сместятся завтра звезды со своих мест. Еще пробавит Свою милость Господь к нам, грешным. Он, колеблющий море и сушу. Он, призвавший нас одухотворить материальный мир, Он, ждущий нашего покаяния и обращения.
Солнце взойдет. Скворцы вылетят за кормом. Но нет, уже не скворцы, а скворец. Уже не вылетит скворчиха - села на яйца, высиживает птенцов. Нынче они очень ранние. Вылупятся, встанут на крыло, осенью улетят в Африку. А весной вернутся. Они летят по звездной карте. И, пока она неизменна, они найдут дорогу.
В те незабвенные времена, когда писателей ценили и тиражи журналов были заоблачными, один из журналистов, "Работницы" или "Крестьянки", точно не помню, объявил меня лауреатом года. Жили мы с женой очень скромно, этому известию обрадовались.
- Тебе купим костюм, - говорила жена, - а то ходишь, как…
Мы наивно думали, что если тираж журнала восемнадцать миллионов, то и премия изрядная. Увы, какой там костюм, на рукав бы не хватило. Совершенно расстроенный, я поехал обратно. Но не сразу домой, а в Дом литераторов. В нем была какая-то притягивающая сила черной дыры. Не хочешь, а едешь. Конечно, было там и хорошее: друзья были, разговоры, всякие секции, бюро, творческие объединения, обсуждения, вечера, собрания… Но главное, конечно, были ресторан и буфеты. В них и проистекала творческая жизнь. Гуляли изрядно.
В нижнем прокуренном буфете меня окликнул мрачный поэт Юрий Кузнецов. Поэты его побаивались или заискивали перед ним. То и другое было не по нему, я же был прозаик, да к тому же в еще более отдаленные годы мы вместе работали в издательстве "Современник" и не читали друг друга ни строчки. Да и зачем читать что-то у человека, с которым и так хорошо?
- Ты когда-нибудь купал женщину в шампанском? - спросил меня Юра.
- Еще нет.
- А что? С книги можно. (То есть с гонорара за книгу.)
- С книги - может быть, а вот с премии не потянуть. Я сейчас как лауреат года премию получил - слезы! Такую и домой не понесешь, только пропить. Тебе чего заказать?
- Только не шампанского. Хотя, - Юра опять задумался, - ничего в этом купании хорошего нет. Женщина же будет липкая вся, ее же надо будет потом обмывать, косметика потечет…
- А ты в сухом купай.
- Все равно же мокрая. Ну что, пару ящиков хватит. Тут, брат, гусарить надо до конца, тут надо ее туфелькой шампанского черпать и пить. Но, конечно, надо, чтоб и она была на взводе и чтоб сам был в полном порядке. Трезвый же не будешь из туфли пить. Ну что, брат, заказывай.
А дальше… дальше все было как в стихах Юрия Кузнецова: "С бледным лицом возвращаюсь к законной жене. Где я напился? На дне, дорогая, на дне".
И вот - прошла вечность, мы живем и умирать не собираемся, все в той же самой лучшей стране, России, пишем, кто хуже, кто лучше. Живем не всегда, но иногда хорошо. Смотрим, пожимая плечами, как демократы из Пень-клуба дают друг другу разные премии. Ведь, по гамбургскому счету, мы, писатели, отлично знаем, кто чего стоит, так что и тут все в порядке. Недавно меня порадовало искренностью высказывание писательницы для общего вкуса Марининой. Ее телеведущий спрашивает: "А как на вас смотрят настоящие писатели? "Маринина отвечает: "Как солдаты на вошь". Если мои благосклонные читатели, а они у меня есть, позволят мне считать себя писателем, как и моих друзей, то замечу, что солдаты - символ защиты Отечества - ходят в чистом, в бане моются, как же они будут смотреть на вошь?
Вот и мне решили дать премию новые бизнесмены одного нового какого-то АО, ЗАО, РАО, я в них не разбираюсь. Позвонили, соединили с начальством. С самым главным - не сразу. Как я живу? Очень хорошо живу, отвечал я. У меня все есть. Нет, машины нет, дачи нет, ну и не надо. Квартира? Ничего, терпимо. Кабинета нет, ну так всю жизнь не было, и тоже не надо. Я говорил, а сам думал: взять бы им, поросятам, меня на пансион, на два года хотя бы. Я бы роман написал. Но их планы были шире и значительней. Они учреждали премию и меня собирались объявить первым лауреатом. Соединили с начальником. Он тоже долго говорил.
- Мы знаем, - говорил начальник, - у вас давно не было книг, это же для писателя нонсенс. Не скрою, этой премией мы хотим показать правительству пример отношения к культуре. Отношение же почти на нуле, вы согласны? Культура - дело первостепенной важности, я так думаю.
Как не согласиться с тем, что культура - дело первостепенной важности? Я обещал сутки подумать. Вечером жена видела этого человека по телевизору.
- Очень приличный. Говорит дельно, не жует, есть что сказать, в отличие от некоторых. В конце концов тебе пора купить приличный костюм, ходишь как…
Короче, когда мне назавтра позвонили насчет премии, я на нее согласился. Колесо завертелось. Дела со мной имел референт. Он бодро доказывал, что все подвигается, вручение приурочено к благотворительному вечеру, просил подготовить мое ответное слово, осторожно просил показать его. Я отвечал, что по бумаге говорить не умею, что даже и не знаю, что говорить. Он испугался: как так? "Ну я же не слышал слов при вручении, я же на них должен отвечать. Услышу и отвечу". - "Мы вам покажем речь Ильи Семеновича".
Я отказался читать заранее то, что все равно услышу. Думаю, что они уже начинали во мне разочаровываться.
- Премия - это взятка, - философствовал я перед женой. - Дадут - и обязан отработать. Ведь я уже потом против этого РАО нигде не выступлю. Вот (такой-то) издали ему книгу (такие-то), он же теперь слова против них не скажет.
- Но книга-то хорошая, - возражала жена. - Или ты забыл про клок шерсти с паршивой овцы? И вообще, что ты на этом зациклился? Возьми да откажись, пока не поздно…
На церемонию вручения меня хотели везти на машине. Я отказался не почему-либо, а просто потому, что здание, где был вечер, рядом с метро. Я с детства жалею технику. Меня просили приехать пораньше, но я думал, а чего там буду толкаться, и приехал в обрез. Мокрый от напряжения и страха референт, вымученно улыбаясь, провел меня в комнату президиума. По дороге обнаружил, что я без галстука, и приказал кому-то принести три на выбор. Я уперся, не ношу я галстуков. В комнате президиума был богато накрытый стол. Я, из любопытства, приподнял одну из не виданных мною бутылок за горлышко. Референт испуганно сказал:
- Может, после церемонии?
Видимо, он полагал, что русский писатель хлобыщет коньяк стаканами. Значит, ему велели отвечать не только за мою доставку, но и за мой внешний вид. Меня подвели к Илье Семеновичу. Спасибо ему, что хотя бы не приобнял за плечи, не похлопал по спине, не сказал: "Вот вы какой, оказывается" - просто пожал руку, ею же указал на накрытые столы, уточнив, что это просто так, что банкет впереди.
Я отвел в сторонку край занавеса, посмотрел в зал. Публика была очень приличная: ветераны и школьники. Началась церемония. Долго гремел оркестр, звучал "Рассвет на Москве-реке" из "Хованщины" Модеста Мусоргского. Долго оглашались списки добрых дел этого объединения. Вручались подарки. Велели готовиться и мне.
Илья Семенович говорил без бумажки, что меня обрадовало. А то получилось бы, что я без бумажки, а он с ней. Вынесли Диплом лауреата. Диплом - прямо чудо полиграфического искусства. Даже и конверт, из которого извлекли Диплом, был специальный, сверкал золотом каемки и серебром надписей. Илья Семенович в своем слове излягал правительство в области плохого отношения к культуре, особенно в области литературы, сказал, что я хороший, что они решили меня отметить и т.п.
Референт шептал мне о заслугах Ильи Семеновича. Ясно, что мне полагалось их, эти заслуги, озвучить, сделать достоянием общественности. В зале было много представителей прессы. Из упрямства я ни слова не сказал в адрес Ильи Семеновича, более того, заявил, что хорошая литература не нужна никому: ни коммунистам, ни демократам, она независима, она на стороне униженных и угнетенных, что демократия плодит нищету и разбой, уменьшает рождаемость, увеличивает смертность, и даже ляпнул такую фразу, что подачками от богатеньких буратино культуру не поднимешь. И не надо: русская культура самодостаточна. Что я вкладывал в это слово, которое совсем не люблю, я не понимаю до сих пор. Но то, что мое выступление было не по нутру Илье Семеновичу, я сообразил. Пожал ему руку. Оркестр исполнил "Славься!" Михаила Ивановича Глинки из оперы "Жизнь за царя". Я ушел со сцены с большим конвертом. За кулисами Илья Семенович сообщил, что деньги они сюда не привезли, чтоб "презренным металлом" не омрачать радость события, что просит прямо завтра приехать к ним в офис за суммой. Сказал загадочно: "Для начала дадим вам пять тысяч. Немного, конечно, но это же, - он похлопал меня по плечу, - для начала".
Мне не хотелось на банкет, я и не остался. Ушел, даже и не извинился. Референт меня не уследил. А вот одна женщина перехватила. Она просила у меня денег на поездку в Оптину пустынь.
- А вы знаете, мне денег не дали, - извинился я. Но я видел, что она мне не поверила.
Жена, не ходившая на церемонию, посоветовала вообще за деньгами не ездить.
- Ну уж нет, - сказал я, - столько позорился, должна же быть какая-то компенсация.
Наутро несколько газет сообщили об учреждении премии и первом ее лауреате. Позвонил товарищ, очень давно не звонивший:
- Ну что, старичок, надо тебя качнуть.
Когда я к обеду рассказал уже нескольким знакомым, что денег мне не дали, я решил их получить. Позвонил… нет, не Илье Семеновичу, его телефона не знал, а референту. Референт говорил очень холодно. Выговорил и за речь, и за отсутствие на банкете. А про деньги спросил:
- Разве вы их не получили?
- Илья Семенович велел зайти за ними.
- Я узнаю и позвоню.
Он узнавал три дня. Я не звонил. Позвонил он и соединил с Ильей Семеновичем. Тот, прервав отчество, просил позвонить завтра. Что делать, позвонил. Хотя уже указательный палец немел от кручения диска. Не соединяли. На другой день, на третий его не было. Я не мог и представить, чтоб от меня бегали: люди занятые. Но вот мне назначили день приезда. Велели с паспортом. Это для пропуска. Выписали пропуск, чуть ли не обшарили при входе, я прошел сквозь "хомут", как в аэропорту. Велели ждать. Я ходил по коридору, вышедшему из евроремонта, и чувствовал себя очень паскудно. Тем более какой-то служащий очень настойчиво предложил мне "присесть". У Ильи Семеновича шло, естественно, заседание. Но вот он вышел и, даже и руки не протянув, вынул из кармана катушку ассигнаций. Почему они были так свернуты, не знаю. Может, для удобства. Он ловко отмотал мне две тысячи, подумал, еще добавил пятьсот.
- Мы как договорились? - спросил он.
Я растерялся. Разве мы договорились?
Он вспомнил:
- А, да, пять. Я говорил: пять, да? - Он подумал. - Половина, пересчитайте, ваша, остальные чуть позже. Идет?
Мне казалось, что при выходе меня ощупают и отберут выданную сумму. Нет, выпустили. Я никуда не заезжал, привез деньги домой, рассказал жене, как мне в коридоре отслюнивали купюры.
- Забудь, - сказала она, - и больше им не звони.
Я и не звонил и благополучно забыл бы о премии, но она сама о себе напомнила. Наступил следующий год. Я как законопослушный налогоплательщик заполнил налоговые простыни и уснул спокойно. Доходы мои не превышали суммы, после которой налоги взимаются. Вдруг меня вызвали в налоговую инспекцию. Инспектор, человек очень доброжелательный, спросил:
- А вы не забыли какие-либо доходы внести в декларацию?
Тут я вспомнил свою дальновидную жену, она говорила, чтоб я внес эти две с половиной тысячи в декларацию. "Возьми у них справку". Но это же надо было им звонить, я представил, как они будут докладывать Илье Семеновичу, как он подумает, что я напоминаю о второй половине, и решил не связываться. Да и велика ли сумма в конце концов.
- А-а, - сказал я, как бы вспоминая, - ну да, премия. Две с половиной тысячи. Но справки нет. Если можно, запишите без справки.
- Две с половиной? - спросил он. - Значит, вам долларами заплатили?
- Нет, рублями. Долларами, да вы что, да я их ненавижу, брезгую в руки взять. И вообще, - просветил я инспектора,- уважающая себя страна не позволяет чужой валюте вторгаться в свои пределы. Доллар, кстати, произошел от европейского талера.
Инспектор выслушал меня, закурил и пододвинул выписку из сообщений о благотворительной деятельности объединения, меня наградившего. Там среди прочих расходов значились и моя фамилия, а против нее стояла сумма - пятьсот тысяч рублей.
- Или это ошибка, - сказал я, - или они мне должны четыреста девяносто семь тысяч пятьсот.
- Советую разобраться, - сказал инспектор. - Месяца хватит? Я вам верю, но я обязан верить фактам, а не словам. Или они отзывают документ в части вас, или на вас налагаются санкции через суд.
- Да, - говорил я дома жене, - вот вляпался. У них, значит, статья благотворительности налогами не облагается, а премии облагаются. С тех, кто получает. Значит, руки на мне погрели. А может быть, - строил я предположения, - они и хотели дать пятьсот тысяч, а потом я им не понравился, они и переиграли. А по документам прошла такая цифра. А может быть, решили, что я такой богатый, что заплачу налог и не вздрогну.
- Не гадай, а звони им.
Угроза описи имущества через суд придала мне сил, и я дозвонился. Референт был изумлен. Илья Семенович был не в курсе. Они обещали разобраться. И, видимо, разобрались, так как меня больше к инспектору не таскали.
Большое вам спасибо, дорогие учредители новорусских премий, спасибо и до свидания.
Тогда в Монголии, нас, русских писателей, принимали как самых желанных гостей. Застолья превышали все мировые стандарты гостеприимства. В делегации, хотя я и считался ее главою, был поэт Лев Ошанин, человек сильно знаменитый оттого, что его песни, по крайней мере тогда, знали все. Так что самым главным в делегации был, конечно, Ошанин.
Нас возили повсюду. Незабываема поездка в Хара-Хорин, бывшую столицу мира Каракорум. Именно отсюда Чингисхан посылал своих ордынцев, великодушно даря им любую землю, лишь бы на нее наступило копыто монгольского коня. Мы бродили по развалинам Хара-Хорина, слушали тревожные речи монгольских писателей о том, что тут хотят строить туристический центр, гостиницы, игорные дома. Да, у нас уже начинались общие неприятности - когда мы вернулись в Улан-Батор, на аэродроме стоял охраняемый морскими пехотинцами "Боинг" госсекретаря США.
Но сейчас не об этом, сейчас о монгольском гостеприимстве и о Льве Ошанине, главном герое тех дней. Тогда все лилось рекой: речи, песни, кумыс, а особенно, монгольская водка - архи. Монгольские писатели с благодарностью говорили, что именно Ленин заметил и оценил, что архи нужно, архи важно, архи полезно. Наши сидения то на коврах, то на скамьях, то на стульях, то в ресторанах, то в юртах озвучивались прекрасной древней музыкой монгольских степей, незабываемыми песнями и танцами монгольских красавиц.
О красавицах особо. Какой же поэт, если он не влюбляется. Это я об Ошанине. Но красавицы были столь хороши, что и не поэты могли в них влюбиться. Но тут Ошанин был вне конкуренции. В любом застолье он избирал себе жертву, искренне любил ее (что покоряло жертву и оправдывало поэта) и, глядя на нее сквозь сильные очки, читал:
Что ты смотришь так холодно на меня через стол?
Коль ты льдина полярная, я - ледокол!
С монгольской стороны главным был писатель Цэдев, выпускник нашего Литинститута. Обычно и на официальных мероприятиях, и в застольях мы сидели рядом. И какие бы пышные застолья мы ни справляли, Цэдев говорил, что это всего лишь слабая репетиция, разминка, подготовка к застолью основному.
К нему нас везли через степи и горы такой красоты, что и посейчас, прикрыв глаза, я очаровываюсь ими. Останавливались, выходили из машин, склонялись к скромным, трогательным, низким и сильным травам, пили из редких, бережно хранимых родников.
Юрта Чингисхана - так называлось место генерального застолья. В эту юрту вполне мог въехать самосвал и там ездить по кругу. Когда из далекой перспективы выхода на кухню показывались девушки-официантки, то казалось - они идут по огромному цветущему лугу: такой красоты и таких размеров был ковер на полу. Играл оркестр.
Одна из официанток, одетая до пояса в национальный костюм - кофточку и жакет, расшитые драгоценными камнями и цветным шелком, а ниже пояса одетая по-европейски, то есть в джинсы, обслуживала центральный стол, то есть нас. Естественно, что Ошанин ее полюбил.
И час, и два, и три шло застолье. И четыре. Уже были питы разносолы, но даже и это обозначало лишь приближение к главному блюду - мясу барана, приготовленного целиком, на вертеле над костром, в течение суток. Ошанин, бывавший в Монголии и ранее, прочел стихотворение о том, как такого барана готовят, как добывают сквозь горло кости, как нашпиговывают травами и пряностями, как внутрь помещают раскаленные специальные камни… То есть усилил ожидание гастрономического чуда.
Разогретые архиполезными напитками гости и хозяева уже и попели, и потанцевали. Пели в основном песни Ошанина. Юрта была такой огромной, что, чтобы слышать голос председателя Цэдева, на нашем столе стоял микрофон.
Принесли на блюдах… камни, добытые из нутра барана. Нам объяснили, что это целебные камни, если их подержать в руках, приложить к больному месту, то они вытягивают из организма вредные соки. Как, было непонятно, но я видел, что монголы отнеслись к жирным камням всерьез. Подержали в руках камни и мы. Тут Цэдев стал говорить мне, что приближается самый важный момент пиршества, мне, как главе делегации, принесут на подносе бараньи глаза…
- Чего принесут? - в ужасе спросил я.
- Бараньи глаза - огромный деликатес.
- И… и что?
- Один ты должен съесть сам, но только брать его надо руками, другой ты своей рукой должен положить в рот тому, кто тебе особенно дорог.
Ясно, что подразумевалось: второй глаз предназначался для Цэдева. Я решительно сказал:
- Цэдев, прости, но я не смогу.
- Большая будет неувязка, - мягко сказал Цэдев. - Вековое лакомство, национальные традиции, дружба народов… - Он подвигал по столу целебные камешки.
Послышались звуки настраиваемой зурны, это музыканты, в очередной раз перекусив, готовились аккомпанировать главному событию торжества.
- Цэдев! - озарился я. - Слушай! Ведь Лев Иванович главный человек и в застолье, и на всех встречах. Уверяю тебя - никто не удивится, не поймет ничего превратно, если угощение принесут ему. А? Цэдев!
- П-пожалуй, пожалуй, ты прав. А с ним ты поговоришь?
- Конечно!
Я тут же перегнулся через стулья к Ошанину и стал излагать суть проблемы.
- Лев Иванович, вы же были в восьмидесяти, вы говорили, странах. Я думаю, чего только вы ни ели. Так ведь?
- Червей на Суматре ел, - отвечал Ошанин.
- Вот! - Обрадовался я. - Лев Иванович, надо бараний глаз съесть, очень прошу!
- Элементарно, - сказал Ошанин, - я их уже ел. По-моему, в… или… нет, ну, неважно. Съем.
Тогда я объяснил, что процедура еще должна включить скармливание другого глаза… я показал на широкую спину Цэдева, укрывшись за которой мы беседовали.
Понял меня Лев Иванович или не захотел понять, не знаю. Но с бараньими глазами вышел гран-конфуз. Пока мы говорили, Цэдев дал указание изменить адресат для подношения. Но ведь вот что надо учесть - застолье длилось уже часов пять, уже любовь Ошанина к полуевропейской русскоговорящей официантке возросла, уже и ей было прочитано про ледокол, то есть, когда она принесла на блюдце бараньи глаза, когда ударили бубны и струны, то Ошанин съел один глаз сам, а другой своею собственной рукой скормил… официантке. Она проглотила его и, сделав совершенно европейский книксен, удалилась, унося опустевший узорный поднос.
Но бубны гремели, но архи лилась. Не из-за таких событий прекращается дружба.
В одном из псалмов Давидовых говорится о том, как погибает память о человеке. С шумом. "Запретил еси языком, и погибе нечестивый… погибе память его с шумом" (Псалом 9). Я вовсе не хочу сказать, что память, обрушившаяся при мне, есть память нечестивого, но то, что я присутствовал при скачке секундной стрелки истории, - несомненно.
Рано утром я шел от Пушкинской площади вниз, к Кремлю. Но что-то заставило меня свернуть с Тверской на бывшую улицу Немировича-Данченко, на еще прежде бывший Глинищевский переулок. Прошел мимо бывшей опять же гостиницы "Англия", в которой Пушкин посетил Адама Мицкевича, о чем свидетельствовала мемориальная доска, прошел и чуть далее.
И вдруг краткий грохот ужасной силы, наподобие взрыва, заставил содрогнуться и бывшую улицу, и нынешний переулок. Метрах всего в двадцати от меня обвалилась часть стены. Когда пыль от обвала улеглась, я понял, что это не стена обрушилась, а мемориальная доска. Но такая огромная и толстая, что обломков и пыли от нее хватило на весь переулок.
Досок на фасаде дома было очень много. Явно не предусмотренные проектантами здания доски отягощали его во всех смыслах. И утяжеляли, и привлекали внимание только к себе. Среди досок была одна, самая скромная. "На этом месте была церковь святителя Алексия. 1621-1934 гг.". Остальные доски были с эпитетами: выдающийся, известный, великий.
Так чья же доска рухнула с таким шумом? Она как раз упала лицом кверху, и можно было прочесть, что это такая-то актриса. Годы жизни. Жена писателя, пережившая мужа на пятьдесят пять лет. Но ведь в конце концов могла и не ее доска упасть, их рядом сколько угодно. Конечно, тоже упадут. Не по отдельности, а вместе с домом. Сколько ему стоять? Ну пятьдесят, ну сто лет... Это же крохотная часть вечности. И не часть, не частичка, а вскрик в ночи.
Нынче никто уже не реставрирует дома, их просто ломают и строят новые. Дешевле. А память об актрисе? О режиссере? Смешно. Эпоха, будто покрытый коростой больной, чешется, сдирая с себя чешую имен и фамилий. Чешуя остается во времени, высыхает и разносится ветром. И это справедливо.
Не знаю, будет ли восстановлена церковь святителя Алексия. Хорошо бы. Тогда бы не разрушилось ничего. Но, может, уже упущено время. Как знать.
Как знать. Просыпаешься среди ночи от грохота. Это движение времени, которое освобождается от тяжести.
А у Господа вообще нет времени. Для нас столетие, для Него секунда.
Сижу в деревне, переживаю за скворцов. Это такое нежное время ожидания птенцов. Сижу, читаю Плутарха:
"… он успел умереть раньше, чем в жизни римского государства настали те перемены, которые уже тогда уготовлялись ему роком и междоусобном недугом, но еще свободном".
В то время я еще не учился. У нас жила девочка, безсловесная удмуртка. Она жила зиму или две, ходила в школу. Тогда мало было школ по деревням.
Питалась она очень бедно, почти одной картошкой. Мыла две-три картофелины и закатывала в протопленную печь. Они скоро испекались, но не как в костре, не обугливались, а розовели… Излом был нежно-серебристым, как горячий иней.
Я однажды дал ей кусок хлеба. Она испугалась и не съела хлеб, а отдала нищему.
Мама жалела девочку-удмуртку.
- Как же бедно-то живут.
- А хлеб не взяла.
- Не возьмет, не нашей веры.
- А какой?
- Да я толком-то и не знаю. У нас на икону крестятся, а они в рощу ходят, молятся, келеметище.
- А какая у нас вера?
- Ты православный, мирской.
Помню, как приходит мать удмуртки. Как извиняется, что стучат задубевшие лапти, как они сидят в темноте, в языческих отблесках огня из-под плиты. Не зная их языка, я догадываюсь, что дочь рассказывает обо мне. Утром мать удмуртки украдкой дает мне, как очень важное, темного от времени деревянного идола, амулет их религии. Религии, непонятной мне, но отметившей меня своим знаком за кусок хлеба для голодной их дочери.
Днем, когда я, набегавшись по морозу, греюсь на полатях, солнце золотит желтую клеенку стола, удмуртка сидит за столом и учит "У лукоморья дуб зеленый…"
Я быстрее ее запоминаю стих и поправляю ее, а она смеется и дает мне большую теплую картофелину.
Давно хотел записать поразивший меня рассказ о похоронах постперестроечного бандюги. Хоронили авторитета Васю с музыкой, салютом над могилой, но это все могло быть и не для Васи, а для любого, даже и не мафиозного, начальника. Но Васю, в отличие от других покойников, не оставили без музыки и после смерти.
Как? А так: в его гроб, естественно, из краснейшего дерева, с прозрачной крышкой, были помещены: а) разноцветные мигающие фонарики, долженствующие напоминать Васе счастье детства; б) аудиокассеты с любимыми Васиными песнями и мелодиями. Батарейки в проигрывателе были рассчитаны на сорок дней, как и мигание гирлянд. Теперь даже закоренелые безбожники знают, что после сорокового дня с душами умерших происходит нечто, после чего звуки и краски земного мира им не нужны.
А что нужно? Тут Васины кореша и братки не разбирались и не задумывались.
Но тогда я не записал этот рассказ, наивно полагая - это предел кощунства по отношению к смерти, и что дальше этого зайти уже невозможно.
Оказалось, возможно. Вот новый рассказ. Как известно, во всех бедах бывших союзных республик виноваты клятые москали. Советских москалей, в чем очень помогали москали демократические, уже вываляли в грязи, но что-то дела в бывших республиках не пошли лучше, опять нет в жизни счастья. А-а, сообразили в Молдове, так ведь москали еще были в семнадцатом аж веке. Тогда один молдавский письменик оженился на москальской княжне. Как такое вытерпеть? И вот - присягаю, что я не выдумал, - вот в Кишиневе расторгают брак умершего два века назад молдаванина с русской княжной, находят ему невесту из нынешних, (кажется певичка) и… заключают брак. Посаженным отцом невесты и жениха выступают очень видные политики. Не верите? Поезжайте в Кишинев, спросите. Там все об этом знают. И свадьба была. И музыка. Плясал ли покойник, не знаю. Вот такие дела. Такая вот музыка.
Почти ничего не значит нынешняя мелочь. Денежная, имею в виду. Помню из детства утверждение дедушки, что гибель России началась с момента изъятия из обращения монетки достоинством в полкопейки. Полкопейки - это грош, он остался только в пословицах, которые тоже умирают. "Не было ни гроша, да вдруг алтын". Алтын - сколько копеек? Три копейки. Правильно. А две копейки? Это семитка. А гривенник - это десять копеек? А пятиалтынный - это пятнадцать. Двугривенный - двадцать, а полтинник и вовсе пятьдесят. Наконец, рубль - это целковый. Копейка рубль бережет - так говорили. Копейка - это кусок хлеба, коробка спичек, стакан газировки, на рубль в студенческие годы иногда жили по три дня: хлеб ржаной, буханка - девять копеек, картошки килограмм - десять копеек, кило макарон - четырнадцать, остальное соответственно.
Совершенно сознательно я вспоминаю цены детства и юности, чтобы хоть как-то напомнить нынешним молодым о ценах, которых достигло Отечество всего за пятнадцать лет после самой страшной войны в истории. Почему, спросим, росло благоденствие народа? Ответ самый простой: не воровали. Были и гусинские, и березовские, и разные рыжие прохиндеи, но условий для воровства им особо не создавалось. Боялись, попросту сказать.
Но что мы все о них, их и без нас Господь накажет, надо больше с себя спрашивать. А чего вдруг я стал про мелочь размышлять? Я шел в зимний день без перчаток и грел руки в карманах куртки. А в кармане мелочь, вот и тряс ею. Еще вспоминал, как до сих пор у меня в Вятке продавщицы в сельских магазинах сдают сдачу с точностью до копейки, и я заметил, что их обижает наша московская хамская привычка не брать на сдачу медяшки. И еще меня выучил уважать нынешние монетки один мужчина, Александр Григорьевич. Мы шли с ним по улице, он нагнулся, поднял копейку и объяснил: "Ты же видишь - изображение Георгия Победоносца, как же его оставить под ногами, еще кто наступит". С тех пор я поднимаю даже мелкие монеты. Подними, донеси их до ближайшего нищего, идти далеко не придется, и отдай ему. А у него набежит монетка к монетке на хлеб, на соль.
Шел такой густой свежий снег, что белые стены домов не ограничивали пространства, я чуть не въехал в высокую белую стену Сретенского монастыря и пошел вдоль нее. Увидел у ворот занесенную снегом нищую. Да нищую ли? Очень бойка она мне показалась, но правая рука, трясущая в кармане мелочь, захватила ее в горсть и извлекла на свет Божий. Я решил подать монетку, всегда вспоминая маму, учившую, что подавать надо, но понемногу. "Большой милостыней не спасешься, лучше чаще подавать. Нищий настоящий и куску хлеба рад, а тут деньги".
На ладони правой руки лежала грудка беленьких монеток, левой рукой я стал эту грудку ворошить, ища монету желтенькую, я решил подать полтинничек. То есть правая рука знала, что делает левая. И что мне было дать рубль, нет, видимо, пожалел. А рубль-то как раз у меня из ладони и выскользнул и упал в густой снег. Где там его было искать. Я дал нищей пятьдесят копеек и подумал, что хорошо меня Господь вразумил за жадность.
Мало того, тут еще и вот что случилось. Нищая достала из-под шали бумажку, это был грязно-зеленый доллар и спросила:
- Тут шли не наши, эту бумажку дали. Куда я с нею?
- В обменный пункт, так дадут тридцать рублей.
- Кто меня туда пустит. Возьмите вы ее себе.
- Не хочу, - ответил я, - я брезгую долларами, прикоснусь, потом руки не отмыть, отдайте кому-нибудь. Или в церковь. Нет, - тут же прервал я себя, представив, как это заокеанская "зелень" будет лежать в церковной кружке. - Если мы ее еще и в церковь пустим, то и вовсе беда. Выкинь ее, матушка, или порви, без нее проживем. А весной тут рубль мой из-под снега вытает, я рубль уронил, тут он, как в сбербанке, около монастыря полежит.
И опять я шел внутри московской метели, но как-то уже легче думалось о жизни. Думал: конечно, я плохой пророк с своем Отечестве, но в чужом хороший. Скоро, вот увидите, загремит с печки доллар, загремит. Говорю без злорадства, просто знаю. Еще думал: теперешнее ворье страшится Господа и Его слуг, например, святого великомученика Георгия. Они же даже его изображение боятся в руки взять. Вот попросить их вывернуть карманы, в них наверняка не будет мелочи, только зеленая слизь.
А мы, а мы по-прежнему будем считать копейки. Ничего страшного. Деньги счет любят, копейка рубль бережет. Вот и возьми нас за грош.
Поздней весной в заливных лугах лежат озера.
Дикие яблони, растущие по их берегам, цветут, и озера весь день похожи на спокойный пожар.
Ближе к сенокосу под цветами нарождаются плоды. Красота становится лишней, цветы падают в свое отраженье. И на воде еще долго живут. Озера лежат белые, подвенечные, а ночью вспоминается саван.
Падает роса. Лепестки, как корабли, везущие слезы, покачиваются, касаясь друг друга.
Постепенно вода оседает, озера уходят в подземные реки. И как будто лепестки вместе с ними.
Вода в вятских родниках и колодцах круглый год пахнет цветами. Пьют эту воду кони и люди, птицы и звери, цветы и травы, дает эта вода жизнь всему сущему, всему живому.
Только мертвым не нужна вода. Поэтому место для них выбирают на взгорьях.
Кузня, как называли кузницу, была настолько заманчивым местом, что по дороге на реку мы всегда застревали у нее. Теснились у порога, глядя, как голый по пояс молотобоец изворачивается всем телом, очерчивает молотом дугу под самой крышей и ахает по наковальне.
Кузнец, худой мужик в холщевом фартуке, был незаметен, пока не приводили ковать лошадей. Старые лошади заходили в станок сами. Кузнец брал лошадь за щетку, отрывал тонкую блестящую подкову, отбрасывал ее в груду других, отработанных, чистил копыта, клал их себе по очереди на колено и прибивал новые подковы, толстые. Казалось, что лошади очень больно, но лошадь вела себя смирно, только вздрагивала.
Раз привели некованого горячего жеребца. Жеребец ударил кузнеца в грудь (но удачно - кузнец отскочил), выломал передний запор - здоровую жердь - и ускакал, звеня плохо прибитой подковой.
Пока его ловили, кузнец долго делал самокрутку. Сделал, достал щипцами из горна уголек, прикурил.
- Дурак молодой, - сказал он, - от добра рвется, пользы не понимает, куда он некованый? Людям на обувь подковки ставят, не то что. Верно? - весело спросил он.
Мы вздохнули. Кузнец сказал, что можно взять по подковке.
- На счастье.
Мы взяли, и он погнал нас, потому что увидел, что ведут пойманного жеребца. Мы отошли и смотрели издали, а на следующий день снова вернулись.
- Еще счастья захотели? - спросил кузнец.
Но мы пришли просто посмотреть. Мы так и сказали.
- Смотрите. За погляд денег не берут. Только чего без дела стоять. Давайте мехи качать.
Стукаясь лбами, мы уцепились за веревку, потянули вниз. Горн осветился.
Это было счастье - увидеть, почувствовать и запомнить, как хрипло дышит порванный мех, как полоса железа равняется цветом с раскаленными углями, как отлетает под ударами хрупкая окалина, как выгибает шею загнанный в станок конь, и знать, что все лошади в округе - рабочие и выездные - подкованы нашим знакомым кузнецом, мы его помощники, и он уже разрешает нам браться за молот.
Подсела цыганка.
- Не бойся меня, я не цыганка, я сербиянка, я по ночам летаю, дай закурить. - Закурила. Курит неумело, глядит в глаза. - Дай погадаю.
- Дальнюю дорогу?
- Нет, золотой. Смеешься, не веришь, потом вспомнишь. Тебе в красное вино налили черной воды. Ты пойдешь безо всей одежды ночью на кладбище? Клади деньги, скажу зачем. Дай руку.
- Нет денег.
- А казенные? Ай, какая нехорошая линия, девушка выше тебя ростом, тебя заколдовала.
- И казенных нет.
- Не надо. Ты дал закурить, больше не надо. Ты три года плохо живешь, будет тебе счастье. Положи на руку сколько есть бумажных.
- Нет бумажных.
- Мне не надо, тебе надо, я не возьму. Нет бумажных, положи мелочь. Не клади черные, клади белые. Через три дня будешь ложиться, положи их под подушки, станут как кровь, не бойся: будет тебе счастье. Клади все, сколько есть.
Вырвала несколько волосков. Дунула, плюнула.
- Видишь зеркало? Кого ты хочешь увидеть: друга или врага?
- Врага.
Посмотрел я в зеркало и увидел себя.
Засмеялась цыганка и пошла дальше.
И остался я дурак дураком. Какая девушка? Какая черная вода, какая линия? При чем тут зеркало?..
Много времени в детстве моем прошло на полатях. Там я спал и однажды - жуткий случай - заблудился.
Полати были слева от входа, длинные, из темно-скипидарных досок.
Мне понадобилось выйти. Я проснулся: темень темная. Пополз, пятясь, но уперся в загородку. Пополз вбок - стена, в другой бок - решетка. Вперед - стена. Разогнулся и ударился головой о потолок. Слезы покапали на бедную подстилку из чистых половиков.
Тогда еще не было понимания, что если ты жив, то это еще не конец, и ко мне пришел ужас конца.
Все уходит, все уходит, но где-то далеко, далеко, в деревянном доме с окнами в снегу, в непроглядной ночи, в душном тепле узких, по форме гроба, полатях, ползает на коленках мальчик, который думает, что умер и который проживет еще долго-долго.