
Издание газеты
"Православный Санкт-Петербург"

Издание газеты |
|
|||
| НАШИ ИЗДАНИЯ | «Православный
Санкт-Петербург»
|
|||
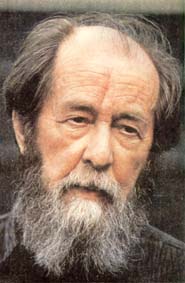
Помню в лагере греческого поэта, уже обреченного, а лет - за тридцать. И никакого страха перед смертью не было в его мягко-печальной улыбке. Я изумился. А он: «Прежде чем наступает смерть, в нас происходит внутренняя подготовка: мы созреваем к ней. И уже ничто не страшно».
Всего год прошел тогда - и я испытал все это на себе сам, в мои тридцать четыре. Месяц за месяцем, неделя за неделей клонясь к смерти, свыкаясь, - я в своей готовности, смиренности определил тело.
Так насколько же легче, какая открытость, если к смерти медленно подводит нас преклонный возраст. Старенье - вовсе не наказание Божье, в нем своя благодать и свои теплые краски.
Тепло видеть возню ребятишек, набирающих крепости и характера. Теплить может даже ослабление твоих сил, сравниваешь: а каким, значит, коренником я был раньше. Не вытягиваешь целого дня работы - сладок и краткий перерыв сознания, и снова ясность второго или третьего утра в день, еще подарок. И есть наслаждение духа - ограничиваться в поедании, не искать вкусовых переборов: ты еще вживе, а поднимаешься выше материи. И какой неотъёмный клад - воспоминания; молодой того лишен, а при тебе они все, безотказно, и живой отрывок их посещает тебя ежедень - при медленном-медленном переходе от ночи ко дню, ото дня к ночи.
Ясное старение - это путь не вниз, а вверх.
Только не пошли, Бог, старости в нищете и холоде.
Как - и бросили мы стольких и стольких...
В чьих Она равнодушных или скользких руках, безмысло или корыстно правящих Ее жизнь. В каких заносчивых, или коварных, или стертых лицах видится Она миру. Какое тленное пойло вливают Ей вместо здравой духовной пищи. До какого раздора и нищеты доведена народная жизнь, не в силах взняться.
Унизительное чувство, неотстанное. И - не беглое, оно не применяется легко, как чувства личные, повседневные, от мелькучих обстоятельств. Нет, это - постоянный, неотступный гнет, с ним просыпаешься, с ним проволакиваешь каждый час дня, с ним роняешься в ночь. И даже через смерть, освобождающую нас от огорчений личных, - от этого Позора не уйти: он так и останется висеть над головами живых, а ты же - их частица.
Листаешь, листаешь глубь нашей истории, ищешь ободрения в образцах. Но и знаешь неумолимую истину: бывало и вовсе гибли народы земные. Это - бывало.
Нет, другая глубь - той четверть-сотни областей, где побыл я, - вот та дышит мне надеждой: там видел и чистоту помыслов, и неубитый поиск, и живых, щедродушных, родных людей. Неужель не прорвут они эту черту обреченности? Прорвут! Еще - в силах.
Но Позор висит и висит над нами, как желто-розовое отравленное облако газа, - и выедает наши легкие. И даже сдув его прочь - уже никогда не уберем его из нашей истории.
Когда грозно растет в тебе опухоль - то, если себя не обманывать, можно рассчитать неумолимые сроки. Но при сердечной болезни - ты порою лукаво здоров, ты не прикован к приговору, ты даже - как ни в чем не бывало.
Благословенное незнание. Это - милостивый дар.
А в острой стадии сердечная болезнь - как сиденье в камере смертников. Каждый вечер - ждешь, не шуршат ли шаги? Это за мной? Зато каждое утро - какое благо! Какое облегчение: вот еще один полный день даровал мне Господь. Сколько, сколько можно прожить и сделать за один единственный только день!
Уж бревно положили мы на козлы, как на плаху, но не решались врезаться в шею пилой: как же пилить его? Ведь оно тоже жить хочет! Ведь вот как оно хочет жить - больше нас!!
На хилый курятник похожа и магазинная будка села Константинова. Селедка. Конфеты-подушечки слипшиеся, каких уже пятнадцать лет нигде не едят. Черных буханок булыги, увесистей вдвое, чем в городе, не ножу, а топору под стать.
В избе Есениных - убогие перегородки не до потолка, чуланчики, клетушки, даже комнатой не назовешь ни одну. В огороде - слепой сарайчик, да банька стояла прежде, сюда в темень забирался Сергей и складывал первые стихи. За пряслами - обыкновенное польце.
Я иду по деревне этой, каких много и много, где и сейчас все живущие заняты хлебом, наживой и честолюбием перед соседями, - и волнуюсь: небесный огонь опалил однажды эту окрестность, и еще сегодня он обжигает мне щеки здесь. Я выхожу на окский косогор, смотрю вдаль и дивлюсь: неужели об этой далекой темной полоске хворостовского леса можно было так загадочно сказать:
На бору со звонами плачут глухари..?
И об этих луговых петлях спокойной Оки:
Скидры солнца в водах лонных...?
Какой же слиток таланта метнул Творец сюда, в эту избу, в это сердце драчливого парня, чтобы тот, потрясенный, нашел столько для красоты - у печи, в хлеву, на гумне, за околицей, - красоты, которую тысячу лет топчут и не замечают?..
Если в какой семье смерть, мы стараемся не писать туда, не ходить: что говорить о ней, о смерти мы не знаем...
Даже стыдным считается называть кладбище как серьезное что-то. На работе не скажешь: «на воскресник я не могу, мне, мол, моих надо навестить на кладбище». Разве это дело - навщать тех, кто есть не просит?
Перевезти покойника из города в город? - блажь какая, никто под это вагона не даст. И по городу их теперь с оркестром не носят, а быстро прокатывают на грузовике.
Когда-то на кладбищах наших по воскресеньям ходили между могил, пели светло и кадили душистым ладаном. Становилось на сердце примиренно, рубец неизбежной смерти не сдавливал его больно. Покойники словно чуть улыбались нам из-под зеленых холмиков: «Ничего!.. Ничего...»
А сейчас, если кладбище держится, то вывеска: «Владельцы могил! Во избежание штрафа убрать прошлогодний мусор!» Но чаще - закатывают их, равняют бульдозерами - под стадионы, под парки культуры.
А еще есть такие, кто умер за Отечество - ну, как тебе или мне еще придется. Этим церковь наша отводила прежде день - поминовение воинов, на поле брани убиенных. Англия их поминает в День Маков. Все народы отводят день такой - думать о тех, кто погиб за нас.
А за нас-то - за нас больше всего погибло, но дня такого у нас нет. Если на всех погибших оглядываться - кто кирпичи будет класть? В трех войнах теряли мы мужей, сыновей, женихов - пропадите постылые, под деревянной крашенной тумбой, не мешайте нам жить! Мы-то ведь никогда не умрем!
Издали можно было представить, что они моляться. Никого в наше время не удивляет, что человек каждодневно служит терпеливо и внимательно телу своему. Но оскорблены были бы, если бы так служил он своему духу.
Нет, это не молитва. Это зарядка.
Какое счастье, что здесь ничего уже нельзя построить! - ни кондитерского небоскреба втиснуть в Невский, ни пятиэтажную коробку сляпать у канала Грибоедова. Ни один архитектор, самый чиновный и бездарный, употребив все влияние, не получит участка под застройку ближе Черной Речки или Охты.
Чуждое нам - и наше самое славное великолепие! Такое наслаждение бродить теперь по этим проспектам! Но стиснув зубы, проклиная, гния в пасмурных болотах, строили русские эту красоту. Косточки наших предков слежались, сплавились, окаменели в дворцы - желтоватые, бурые, шоколадные, зеленые.
Страшно подумать: так и наши нескладные гиблые жизни, все взрывы нашего несогласия, стоны расстрелянных и слезы жен - все это тоже забудется начисто? все это тоже даст такую законченную вечную красоту?..